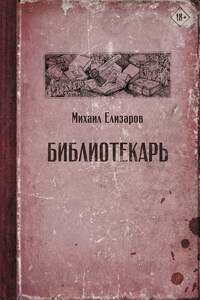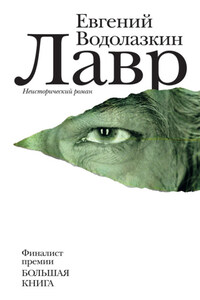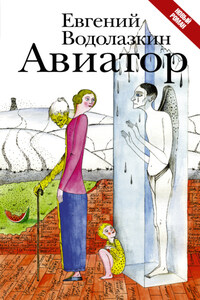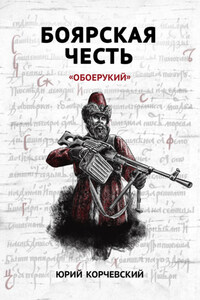25.04.12, Париж – Петербург
Выступая в парижской Олимпии, не могу сыграть тремоло. Точнее, играю, но нечетко, нечисто – так, как это делают начинающие гитаристы, издающие глухое бульканье вместо нот. Никто ничего не замечает, и Олимпия взрывается овациями. Я и сам забываю о своей неудаче, но, садясь под крики поклонников в лимузин, ловлю себя на характерном движении пальцев. Правая рука, словно искупая допущенную ошибку, исполняет теперь уже не нужное тремоло. Пальцы двигаются с невероятной скоростью. Касаются воображаемых струн. Так ножницы парикмахера, оторвавшись на мгновение от волос, продолжают стричь воздух. Подъезжая к аэропорту имени Шарля де Голля, выстукиваю неудачно сыгранную мелодию на стекле – ничего сложного. Как я мог запнуться на концерте?
Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень. Поворачивает голову и замирает. Узнал.
– Вы – Глеб Яновский?
Киваю.
– Сергей Нестеров, – сосед протягивает руку. – Писатель. Публикуюсь под псевдонимом Нестор.
Вяло пожимаю руку Нестора. Вполуха его слушаю. Нестор, оказывается, возвращается с Парижского книжного салона. Судя по запаху из его рта, на салоне были представлены не только книги. Да и у писателя не чеховский вид: оттопыренные уши, седловидный, с крупными ноздрями нос и никакого пенсне. Нестор вручает мне свою визитную карточку. Засовываю ее в бумажник и прикрываю глаза.
Нестор – мне, спящему:
– Мои вещи вряд ли вам известны…
– Только одна, – не открываю глаз. – Повесть временных лет.
Он улыбается.
– Что ж, это – лучшее.
Я, собственно, тоже пишу. Дневник – не дневник – так, изредка делаю записи, дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в аэропорту и потерял. Исписанные кириллицей листы – кто их вернет? Да и нужно ли?
Самолет выруливает на взлетную полосу, приостанавливается, но мотор тут же резко увеличивает обороты. Рыча и сотрясаясь от нетерпения, машина в одно мгновение набирает скорость. Так ведет себя на охоте хищник – дрожит, поводит хвостом. Не сразу вспоминаю, кто именно. Кто-то из семейства кошачьих – какой-нибудь, допустим, гепард. Хороший образ. Охота на пространство, отделяющее Париж от Петербурга. Самолет отрывается от земли. Наклонив крыло, совершает прощальный круг над Парижем. Чувствую, что начинаю засыпать.
Просыпаюсь от тряски, сопровождаемой объявлением о зоне турбулентности. Просьба ко всем – пристегнуть ремни безопасности. А я только что отстегнул. Даже ремень на брюках ослабил – жмет. Подходит стюардесса с просьбой пристегнуться. Говорю ей, что не люблю ремней – ни в машинах, ни в самолетах. Не для свободного человека приспособление. Девушка не верит, ведет себя в высшей степени кокетливо и на все мои доводы отвечает коротким вау. Ей искренне жаль, что такой замечательный артист летит непристегнутым.
Прекращая беседу, демонстративно поворачиваюсь к Нестору. Спрашиваю, тяжело ли писать книги. Нестор (спал пьяным сном) бормочет, что не тяжелее, чем играть на гитаре. Стюардесса не выражает ни малейшего раздражения, ясно ведь: звезда капризничает. Уж так им, звездам, положено. Грозит в шутку пальцем и уходит. Провожая ее взглядом, Нестор неожиданно говорит:
– Сейчас вдруг подумал… Я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.
– Спасибо.
– Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал.
Обдумываю предложение минуту или две.
– Не знаю, что и ответить… Обо мне есть уже несколько книг. По-своему неплохие, но все как-то мимо. Понимания нет.
– Музыкального?
– Скорее, человеческого… Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное проистекает из человеческого.
Нестор тщательно обдумывает сказанное. Вывод – неожиданный:
– Я думаю, моя книга вам понравится.
Алкогольный выдох как предложение верить. Становится смешно.
– В самом деле? Почему?
– Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно…
– Есть немного. А с другой стороны – чего уж тут скромничать, если хороший. – Выстукиваю тремоло на подлокотнике кресла. – Валяйте, пишите.
Ритмичный стук напоминает мне, как сорок с лишним лет назад в Киеве выстукивал ритм Федор, мой отец, проверяя музыкальный слух сына. Чем не начало для книги? Поворачиваюсь к Нестору и кратко информирую его о самом первом моем экзамене, воспроизвожу даже предложенное тогда задание. Я с ним тогда не справился. Нестор, улыбаясь, стучит пальцами по подлокотнику. Он тоже проваливает экзамен.
Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, поворачивая, трамваи. В ответ кротко звякала в буфете посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию повторить не удалось – только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па… Не ахти какие слова – не скажешь, что проникновенные, да и запомнились они единственно потому, что напоминали слово папа. Впрочем, Федор просил называть его по-украински – тато. Мало кто в Киеве так называл отцов. С Глебом и женой Ириной Федор не жил уже несколько лет: Ирина от него ушла. Вернее, ушел-то как раз Федор, которого Ирина попросила покинуть их жилье в семейном общежитии. Будучи изгнан, он снял комнату в другой части города и, имея диплом музучилища, устроился преподавать в музыкальной школе скрипку. Некоторое время после развода пил, предпочитая дешевые изделия вроде 72-го портвейна или Букета Молдавии. Крепких напитков не любил. Если уж пил водку, то, наполнив рюмку, делал это не сразу – несколько раз подносил к глазам, ко рту. Несколько раз выдыхал. Затем зажимал пальцами нос и вливал огненную воду в широко открытый рот. Бывшая жена считала это пьянство показным, поскольку протекало оно преимущественно на виду у тех, кто мог Ирине о нем рассказать. В одном из редких разговоров с бывшим мужем такое поведение Ирина назвала детским. Не переходя на русский, Федор возразил ей, что определение не выдерживает критики, поскольку дети, по его представлениям, не пьют. Логика была на его стороне, но вернуть Ирину это не помогло. Года три-четыре спустя, когда Федору стало окончательно ясно, что жена не вернется, пьянство прекратилось. Ирина позволяла отцу навещать Глеба, но радости от этих посещений не испытывала. Строго говоря, не испытывал их и сам Глеб. Взяв мальчика на прогулку, Федор по большей части молчал или читал наизусть стихи, что для Глеба в каком-то смысле было хуже молчания. Порой, когда в конце прогулки Глеб уставал, Федор брал его на руки. Их глаза оказывались тогда на одном уровне, и сын рассматривал отца немигающим детским взглядом. Под этим взглядом в карих глазах Федора появлялись слёзы. Одна за другой они скатывались по щекам и навеки исчезали в пышных усах. Несмотря на очевидную трезвость в начале прогулки, к концу ее Федор непостижимым образом оказывался навеселе. Сидя на руках у отца, Глеб различал запах дешевого вина. С этим запахом в памяти мальчика прочно соединились отцовские слёзы. Может быть, они и в самом деле так пахли – кто изучал запах слез? Когда без пяти минут первоклассник Глеб заявил о своем желании учиться играть на гитаре, Ирина сама привела его к Федору. Сидела в углу и молча следила за тем, как, повторяя напетое отцом, Глеб не попадал в тональность. Глiб… Федор налил себе полстакана вина и выпил в три глотка. Глiб, дитя моє, ти не створений