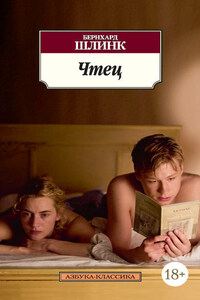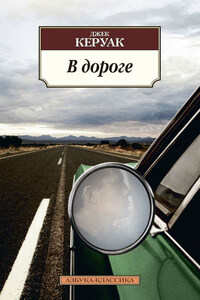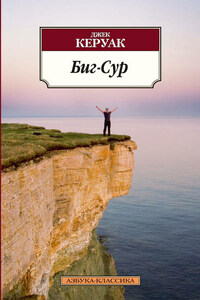Прыгнув как-то в самый полдень на товарняк из Лос-Анджелеса в конце сентября 1955 года, я тут же забрался в угол полувагона и улегся, подложив вещмешок под голову, закинув ногу на ногу, – созерцал проплывающие облака, а поезд катился на север, к Санта-Барбаре. Товарняк был местный, и я собирался переночевать в Санта-Барбаре на пляже, а на следующее утро поймать еще один местный, до Сан-Луис-Обиспо, либо в семь вечера сесть на первоклассный состав до самого Сан-Франциско. Где-то возле Камарилло, где Чарли Паркер сначала свихнулся, а потом отдохнул и снова поправился[1], в мою люльку влез пожилой и тощий бродяжка – мы как раз съезжали на боковую ветку, пропуская встречный, и мужичок, кажется, удивился, обнаружив меня внутри. Сам он устроился в другом конце люльки: улегся лицом ко мне, положив голову на свою жалкую котомку, и ничего не сказал. Вскорости дали свисток, главная магистраль освободилась – там пронесся восточный грузовой, – и мы тронулись; холодало, и с моря в теплые береговые долины потянуло туманом. Мы с бродяжкой после безуспешных попыток согреться, кутаясь в тряпье на стальном полу вагона, поднялись и забегали взад-вперед по углам, подпрыгивая и хлопая себя по бокам. Вскоре заехали еще на одну ветку в каком-то пристанционном городишке, и я прикинул, что мне без пузыря токайского не скоротать в сумерках холодный перегон до Санта-Барбары.
– Посмотришь тут за моим мешком, пока я сгоняю за бутылкой?
– Ну дак.
Я перемахнул через борт и сбегал на ту сторону 101-го шоссе к магазину, где, кроме вина, купил хлеба и конфет. Бегом вернулся к составу, и ждать пришлось еще четверть часа, хоть на солнышке и потеплело. Но день клонился к вечеру, и мы все равно замерзли бы. Бродяжка сидел по-турецки у себя в углу перед убогой трапезой – банкой сардин. Мне стало его жалко, я подошел и сказал:
– Как по части винца – согреться, а? Может, хлеба с сыром хочешь к сардинам?
– Ну дак.
Он говорил издалека, из глубины кроткого ящичка голоса, боялся или не желал утверждать себя. Сыр я купил три дня назад в Мехико перед долгой поездкой на дешевом автобусе через Сакатекас, Дуранго, Чиуауа – две тысячи долгих миль к границе у Эль-Пасо. Бродяжка ел хлеб с сыром и пил вино – со смаком и благодарностью. Я был доволен. Вспомнил строку из Алмазной сутры: «Будь милостив, не держа в уме никаких понятий о милости, ибо милость все-таки просто слово». В те дни я был очень благочестив и выполнял все религиозные обряды почти в совершенстве. Хотя с тех пор и начал несколько лицемерить в словоизлияниях, слегка устал и зачерствел. Ведь я уже так постарел и остыл… А тогда и впрямь верил в милосердие, добро, смирение, пыл, нейтральное спокойствие, мудрость и исступление да и в то, что сам я – эдакий стародавний бхикку, только одет по-современному, скитаюсь по миру (обычно – по огромной треугольной дуге между Нью-Йорком, Мехико и Сан-Франциско), дабы повернуть колесо Истинного Смысла, или Дхармы, и заслужить себе положение будущего Будды (Пробуждающего) и будущего Героя в Раю. Я пока еще не встретил Джафи Райдера – встречу его на следующей неделе – и ничего не слышал о «Бродягах Дхармы», хотя в то время сам уже был совершеннейшим Бродягой Дхармы и считал себя религиозным скитальцем. Бродяжка в нашей с ним люльке лишь подкрепил мою веру – потеплел от вина, разговорился и наконец извлек откуда-то крохотную полоску бумаги с записанной молитвой святой Терезы, где говорилось, что после смерти она возвратится на землю дождем из роз с небес – навеки и для всего живого.
– Откуда у тебя это? – спросил я.
– Вырезал из журнала в читальном зале в Лос-Анджелесе пару лет назад. Теперь всегда с собой ношу.
– И что – вселяешься в товарный вагон и читаешь?
– Дак, считай, каждый день.
После этого он не особо много разговаривал, а про святую Терезу и вовсе не распространялся, очень скромно говорил о своей вере и почти ничего – о себе. На таких тихих, тощих бродяжек мало кто обращает внимание даже в трущобах, не говоря уж про главную улицу. Если его сгоняет с места фараон, он тихо линяет, а если в больших городах по сортировке шныряют охранники, когда оттуда выезжает товарняк, маловероятно, чтобы они засекли человечка, который прячется в кустах и под шумок прыгает на поезд. Когда я сказал ему, что собираюсь следующей ночью поймать «зиппер» – первоклассный скорый товарняк, – он спросил:
– А, «ночной призрак»?
– Это ты так «зиппер» называешь?
– Ты, наверно, работал на этой дороге?
– Ага, тормозным кондуктором на Южно-Тихоокеанской.
– Ну а мы, бродяги, зовем его «ночной призрак», потому что как садишься в ЛА, так никто тебя не видит аж до Сан-Франциско поутру, так быстро лётает.
– Восемьдесят миль в час на прямых перегонах, папаша.
– Ну да, только такая холодрыга ночью, коли гонишь по берегу к северу от Гавиоты и вокруг Сёрфа…
– Да, Сёрф, точно, а потом – горы южнее Маргариты…
– Маргариты, точно, я этим «ночным призраком» ездил стока, что, наверно, и не сосчитать.
– А ты сколько дома не был?
– Стока, наверно, что не сосчитаешь. Сам-то я из Огайо, вот откуда…
Но поезд тронулся, ветер похолодал, полез туман, и следующие полтора часа мы делали все, что было в наших силах и возможностях, чтоб не околеть да притом не слишком стучать зубами. Я весь съеживался и, чтобы забыть о холоде, медитировал на тепло – настоящее тепло Бога; потом подскакивал, хлопал по себе руками, топал и пел. У бродяжки же терпения было больше, и он в основном просто лежал, жуя горькую жвачку в одиноких своих думах. Зубами я выстукивал дробь, губы посинели. К темноте мы с облегчением заметили, как проступают знакомые горы Санта-Барбары: скоро остановимся и согреемся в теплой звездной ночи у путей.
На разъезде, где мы оба спрыгнули, я попрощался с бродяжкой святой Терезы и пошел на песок ночевать, завернувшись в одеяла, – дальше по пляжу, у самого подножья утеса, чтоб легавые не увидели и не прогнали. На свежесрезанных и заточенных палочках над углями большого костра я поджарил себе хот-догов, разогрел банку бобов и банку макарон с сыром, выкопав ямки, выпил новоприобретенное вино и возликовал – такие приятные ночи в жизни редко бывают. Побродил по воде и слегка окунулся, постоял, глядя в сверкающее великолепие ночного неба, в десятичудесную вселенную Авалокитешвары, с ее тьмой и алмазами. «Ну, Рэй, – грю я, возрадовавшись, – ехать осталось несколько миль. Ты снова это сделал». Счастье. В одних плавках, босиком, диковласый, в красной тьме костра пою, тяну вино, плююсь, прыгаю, бегаю – вот как жить надо. Совсем один, свободный, в мягких песках пляжа рядом со вздохом моря, и фаллопиевы теплые звезды-девственницы Подмигивают Мамулей, отражаясь в водах жидкого брюха внешнего потока. А если консервные банки раскалились так, что невозможно взяться рукой, – берись старыми добрыми железнодорожными рукавицами, делов-то. Я дал еде немного остыть, чтоб еще чуть протащиться по вину и мыслям. Сидел по-турецки на песке и раздумывал о своей жизни. Ну вот – и что изменилось-то? «Что станется со мною дальше?» Затем вино принялось за мои вкусовые пупырышки, и совсем немного погодя уже пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с острия палочки, и хрум-хрум, и зарываться в обе вкуснющие банки старой походной ложкой, выуживая роскошные куски горячих бобов со свининой или макарон в шкварчащем остром соусе и, может, чуток песка для приправы. А сколько же у нас тут песчинок на пляже? – думаю себе я. Ну-у, песчинок – сколько звезд на этом небе (хрум-хрум), а если так, то сколько же человеков здесь было, сколько вообще живого было здесь с до начала