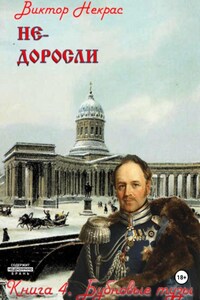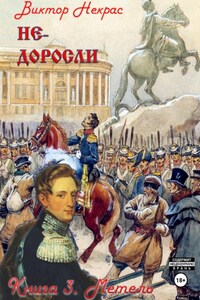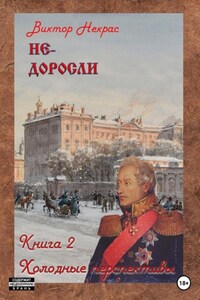1. Санкт-Петербург, 21 декабря 1825 года, Невский проспект, Лиговский канал – Александро-Невская лавра
Процессия остановилась около чугунной ограды Знаменской церкви. Грегори, оттёртый невеликой, но густой толпой к самому тротуару, отлично видел, что шлагбаум на заставе за деревянным мостом через Лиговский канал поднят, и часовые (никаких инвалидов1! настоящие солдаты!) с обеих сторон дороги взяли на плечо, и густой иней плотно облёк примкнутые к мушкетам штыки.
Ждали.
Знали.
Провожали.
Процессия стояла недолго – со ступеней храма неторопливо сошёл священник в угольно-чёрной рясе с серебряным шитьём, влился в толпу – Грегори не заметил, как тот затерялся среди тёмных одежд дорогого сукна. И почти сразу же возница на ко́злах2 катафалка тряхнул вожжами, причмокнул непослушными на морозе губами, кони дружно влегли в хомуты, и мрачный экипаж тронулся с места – раскачивались на лёгком зимнем ветерке боковые чёрные шторы, открывая на мгновения обтянутый шёлковым крепом тяжёлый громоздкий гроб.
Петербург прощался с губернатором.
Следом за катафалком тронулись и остальные. Кавалькада на убранных тиснёной жёлтой кожей, чёрным шёлком и серебром конях. Впереди, на вороном жеребце – новый государь, лица его Грегори не разглядел, да и без надобности было. Следом – генералы, адмиралы, сенаторы и прочий придворный люд. Дамы в колясках и каретах – не одно прекрасное лицо омрачили солёные капли из глаз, глядящих на чёрный экипаж, который уже миновал заставу и вкатился на Знаменский мост. Прощай, красавец генерал! И уже потом, пешими – подчинённые Михаила Андреевича, офицеры столичной полиции и жандармерии. А следом за ними – немногие петербуржские обыватели, соседи генерала, его слуги. Никого из родни не было – все родственники Милорадовича жили в Киевской губернии, а оттуда до Петербурга так скоро не добраться – до них скорее всего, и весть-то о его гибели только-только донеслась.
Кадет Шепелёв шёл следом за офицерами, в толпе обывателей и соседей. Грегори и не думал провожать в последний путь отцовского командира – всё сложилось как-то само собой. Хотя про похороны знал отлично – с утра от директора объявили, что мол, желающие могут отдать последний долг военному губернатору столицы. Кадеты и воспользовались оказией – кто из них действительно собирался пойти на похороны Милорадовича, Грегори не знал, но не видел в толпе ни единого в форме корпуса. Возможно, кто-то где-то и есть. Хотя такой человек должен быть где-то поблизости.
Грегори за воротами корпуса первым делом огляделся по сторонам, чая найти поблизости своих друзей, но никого не увидел. Ни Влас, ни Глеб даже и не подумали пойти в город – оба по-прежнему фрондировали и бравировали своим фрондерством. Скорее всего. А может быть, просто не хотели. Хотя как может не хотеть прогулки здравомыслящий человек, всю неделю запертый в стенах корпуса – это Грегори решительно отказывался понимать. Хоть какие-то элементарные приключения.
Впрочем, приключений за последний месяц им хватило выше головы, совершенно не элементарных – перед ними грозили померкнуть и прошлогодние эпопеи с наводнением и дракой на Голодай-острове.
А потом ноги как-то сами принесли его на Конногвардейский бульвар, а там, увидев катафалк, Грегори и пристал к процессии.
Катафалк миновал мост, на прилежно подогнанные друг к другу мостовины ступили копыта свитских коней. А Грегори поравнялся с гранитными обелисками заставы, покосился на всё ещё стоящих навытяжку караульных солдат.
Ворота заставы были узковаты, возникла толчея, и в этой тесноте кадета кто-то ощутимо саданул локтем (или ещё чем-то твёрдым и острым) прямо под ребро. Грегори с громовым шипением втянул морозный воздух сквозь зубы – перед глазами аж круги пошли, и дыхание занялось! Рана, полученная на побережье залива (кто его и зацепил тогда кортиком, то ил Влас, то ли литвин – сейчас разберёшь разве? – в памяти смутно мелькали искажённые злостью и отчаянием рожи да отполированные до слюдяного блеска клинки) словно вся разом взялась огнём. Хорошо ещё в корпусе никто не заметил их ранений – у каждого из них кожа порезана, у кого на боку, у кого на плече, а у него, Шепелёва – на груди. Перевязывали потом каждого в шесть рук, да клялись над огнём и кровью, что никому никогда про то не скажут.
Пока что клятвы не нарушил никто.
Придерживая на голове фуражку, Грегори осторожно – рана всё ещё болела – поворотился, собираясь либо облаять невежу последними словами, либо, что было более вероятно, пустить в ход кулаки. И наплевать, что снова закровит рана, и рубашка измажется.
Но не пришлось.
– Ты?! – удивлённо выдохнул он.
Яшка-с-трубкой весело и насмешливо улыбнулся в ответ. Опять он застал Грегори первым. Эта их негласная игра продолжалась, каждый, может быть и не желая того, при каждой новой встрече её продолжал.
– Я, – ответил он с лёгким вызовом, выдернул из-за кушака трубку и воткнул её в зубы. На этот раз на бульвардьё не было его щегольского драного цилиндра – должно быть, не выдержал испытаний временем, наконец. Или сам Яшка сдался перед холодом и выбросил драную шляпу. На голове уличника теперь красовался добротный суконный картуз – в нём, безусловно, было теплее, но…
– Чего так глядишь? – еле внятно сказал Яшка – говорить мешала трубка, из которой тянуло едва заметным, но ощутимо смрадным дымком. Дешёвый табак, – отметил про себя Грегори, – да и правильно, откуда у уличника настоящий кубинский, к примеру или ямайский? Хорошо если из Сарепты…
– Как-то тебе без цилиндра… – Грегори пошевелил пальцами, подбирая слова. – Шарм не тот…
– Ништо, – весело осклабился бульвардьё. – Наше от нас не уйдёт. Вон, глянь, впереди какая шляпа… – он кивнул на мелькающий где-то над головами толпы в коляске тёмно-вишнёвый с чёрным отливом широкополый боливар3. – Я буду не я, если к концу дня эта шляпа моя не будет.
«Я – не я, и шляпа – не моя», – хмыкнул про себя Грегори (а боливар и впрямь – хорош!), но вслух сказал иное: