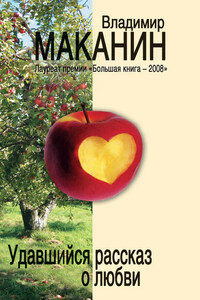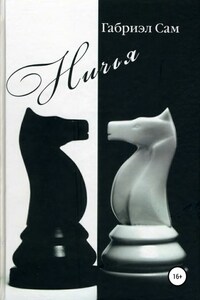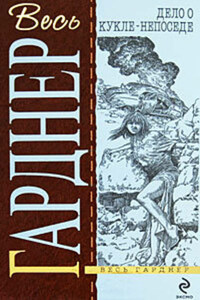В тот августовский день зек Афонцев за обедом обнаружил в своей миске кусок говядины. (Наткнувшись на него ложкой.) Кусок небольшой, плоский. Был нарезан с явной экономией, и все же ложка Афонцева дрогнула, сама себе не поверив. Ложка замерла. А кругом, тем слышнее, стоял звенящий шум. Лязг, какой издают обычно полста алюминиевых ложек в полста алюминиевых мисках. Как не полязгать! Мясо обнаружил каждый. За общим дощатым выскобленным столом. В первых числах августа… В тот самый день, когда буква на скале стала читаться.
В тот же вечер старый грязный зек Клюня вышел из барака. Вышел просто так. Остановился. Однако дальше чем сойти с крыльца не разрешалось (без спросу у постового солдата). Зек тупо и долго смотрел на алый закат. Можно сказать, он смотрел на запад из самой глубинки. Смотрел из сибирской тайги в географическую сторону Уральского хребта, бесконечно далекого отсюда. Смотрел и шевелил ноздрями. Внюхивался. Желтый лицом (и с оторванным левым ухом) Клюня произнес тогда два слова, услышанные и постовым, и зеками:
– Это она.
Клюня имел в виду волю. Ту самую, которой век не видать. Говорил про волю, а смотрел на букву. Буква уже с перекладинкой, готовая. Лишь передняя нога не вполне закончена. Буква «А» чуть хромала. А Клюня шевелил ноздрями и улыбался. В отличие от Коняева, как сочли зеки, он был спятивший тихо.
Но только уткнулись по-настоящему в вонь одеял, как Конь заорал. Этот тронутый не давал заснуть – снова и снова фамилии! Среди ночи!.. Ни одного мертвяка не забыл. Уйгура вспомнил. Перекличка с того света, мать его! Повторялось уже третью ночь. По нескольку раз…
– Аввакумов!.. Арье!.. Бугаев!..
Все повскакивали. Тяжелые, сонные, с выпученными глазами. С ухающим сердцем. Ударившиеся башкой со сна и злые. Сейчас тебя прикончим! Втемную! Нам света не надо!
– …Заикин!.. Зубарев! – продолжал орать тот.
Охрана вошла в барак, грозно зыркая и матюкаясь. Коняев смолк… Охранник, по прозвищу Штырь, поднял руку. Знакомый всем кулак:
– А ну на нары! Спать, падлы, щас собак впущу. Щас яйца пооткусят!
Зеки небыстро полезли на нары. Кто-то нервно и нарочито долго встряхивал вонючим одеялом. Зек Филя во всеуслышанье грозил гвоздем. Ржавым большим гвоздем. Потрясал. Мол, темная темной, а он теперь будет спать лежа на спине и сам учинит Коню расправу – ему один хер, пахан или не пахан!..
Охрана ушла. Уснули. Зек Филя-Филимон тоже спал. Но не на спине, а скрючившись, с зажатым в кулаке гвоздем, чтобы проснуться и с маху всадить в глотку, как только среди ночи этот тронутый опять завопит: «Аввакумов!.. Арье!.. Бугаев!.. Буражников!» Плевать, вожак или не вожак. Список Филя ему докричать не даст. На Р-рр-абиновиче он его прикончит! Век без воли!
Возможно, вырубленная на скале «А» стала давить на старого Коняева. С того же дня… Давила на его глаза. На мозги. На дряхлевшую душу. Коняев, вожак барака-один, не мог ночью как следует уснуть. Не мог спать. Все время видел эту громадную букву. Он вскрикивал. Ее раскоряченные огромные ноги… Ее треугольная акулья голова.
Зеки окрысились, ему не веря. Считали, что ночной переклик мертвых нужен сейчас Коняеву. Базар нужен ему самому – его сдохшему авторитету. Стоило появиться букве (всего-то первой), вожак уже заважничал. Хотел отметить, старый мудак! Вожаки тщеславны, их паханская одурь известна. Но ночами надо спать. И не хера из-за своих сладких мыслишек подставлять всех других.
Это ж с ума сойти!.. Негоже хоронить безымянно. Негоже, мол, в общей яме. И все в таком духе. Нужны отныне таблички для мертвых. Смерть, мол, и подсказала ему, Коню, первый шаг. Смерть подсказала жизни.
Понятно, что здесь назревала уже некая общая мыслишка. Возможно, такие, как Конь, вдруг спятившие, чуют, куда ветер, – тогда это и впрямь мог быть шаг в правовое поле. Первый шаг-шажок. Но зеки-то понимать околесицу не могли. И не хотели. (Мы и слов таких тогда не знали.) В каком-то смысле слово, выбиваемое на камне, будет как их посмертная надпись. А скала – как их общая могильная табличка? И на века. Без имен. Без дат… Вот что, должно быть, померещилось старому Коню. Безликая величественность его напугала. И вот он про таблички и могилки… могилки!.. могилки!
Сначала зеки думали, что туфта. Что заморочка. И что Конь собирается под это дело выбить у начлага в будущем какую-то для зека жрачку. Еду. Таблички – как талоны. И каша в котле через край… Но какая жрачка, какая еда, если он кричал про то время, когда тебя уже засыпят землей. Надо не надо, старый мудак требовал не каши и не картошки, а поименные могильные холмики – мол, ждет каждый! Зеки не знали, что и подумать. Казалось, этот тронутый предлагал делить кладбище уже сейчас. Скорей, скорей. Не прозевать бы! Землицу-то!..
А тут еще побег. В те же дни… Оказалось, Ваня Сергеев… Вдвоем… С ним Енька Шитов, хилый пидар-туберкулезник. Этот бежать ну никак не мог. Он и к насыпи, на работу, еле-еле шагал… А Ваня сглупил. (Не оговорит ли теперь кого Енька? Не переложит ли пидар на зеков вину за побег?..) Ваню застрелили. То ли при поимке его забили. Так измудохали, что уже в тайге помер.
Разве что сам начлаг нуждался в таком побеге. В том, чтобы время от времени кто-то уходил в тайгу. Чтобы исчез там не более чем на денек-два. Это бы не в учет. Бодрит охрану, а собакам дает всласть порыскать, побегать, ловя ветер в глаза.
Шли на работу, соединившись с бараком-два. Побег? Неужели?.. Обменивались слухами: вы нам, мы вам. Шкандыбали. Колонна доходяг. То упадет кто, то выбьется из строя. Кто-нибудь непременно хотел на ходу помочиться. Охрана и собаки тоже нервничали, но пока не ярились. Афонцев приотставал, перешнуровывал жуткие битые ботинки. Горячился, передавая на ходу новости (а что-то узнавая сам). Енька пойман, кашляет в «лазарете»… Козлик внушал Афонцеву опасение – надо бы бочком-шажком к нему пробраться. И поддержать. (Хоть бы через фельдшера.) Дать знать, чтоб не скис совсем и не ссучился. Чтоб молчал.
Струнин – вожак барака-два – бросил вполголоса:
– Вот ты, Афонцев, и пробейся к пидару.
– Чего это – я?
– Ты ж с ним в дружках.
Афонцев от неожиданности не отспорил, смолчал. Не был он дружком с Енькой… раз как-то побить не дал. Охрана себе в угоду прикармливала Еньку, жалкого, женоподобного, но он стал плохо кашлять. Теперь был им не нужен – с сукровицей на губах. С комковатой выкашлянной слизью на подбородке. Охрана пинками гнала его, а он все жался к их мискам. (Боялся, что лагерники отнимут пайковый хлеб. А потощай теперь малость, как все мы!) Афонцев и Деревяго тогда пожалели его: отделили ему место на нарах.
Кремнистая белесая осыпь, топот ног и общий глуховатый галдеж в колонне – это потому, что туман. Шли рядом. Туман вдруг наползал и прятал лица зеков, напряженные скулы.