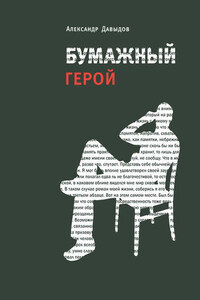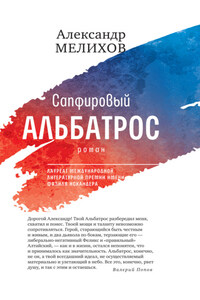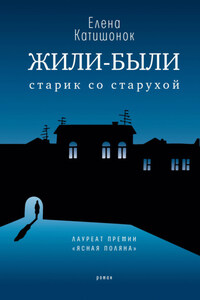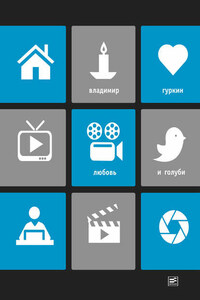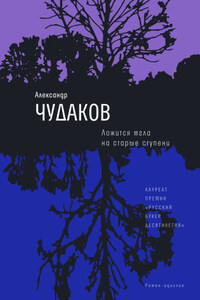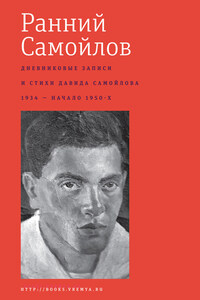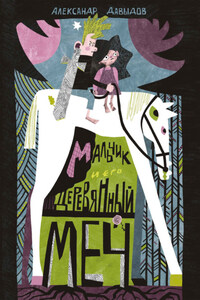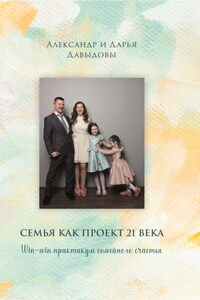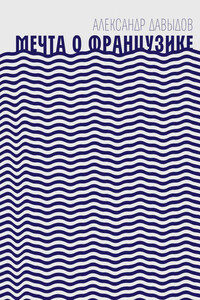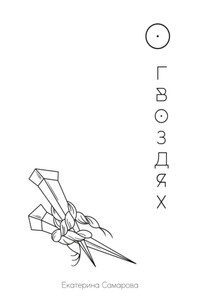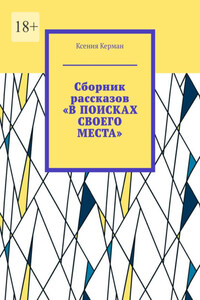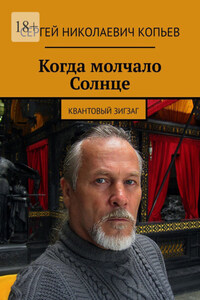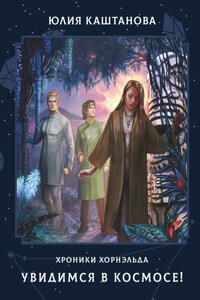Я уже вроде б достаточно лет живу на свете, чтобы привыкнуть к собственной посредственности. Не то чтобы с нею смириться, вовсе нет, она всегда была мне защитой от многоцветья эпох, мне выпавших. Оно б меня ослепило, но что такое заурядность, как не темные очки, без которых не вглядеться в излишне яркий образ? Правда, сам он делается сумеречен, сероват. Посредственность – то же самое, что жизненная умелость, прилаженность к жизни. А что я к ней прилажен, несомненно. Прилажен исконно, от рождения, даже раньше. Моя заурядность выстрадана и обкатана предками, – и мой долг сыновней почтительности следовать ей и передать в незапятнанном виде будущим поколениям. Но вручить ее покамест некому, я до сих пор избегал деторождения, которое мне видится деяньем почти бессмысленным, коль мой потомок станет не яркой искрой бытия, ни даже самым мельчайшим пророком или первопроходцем, а лишь приумножит всемирную заурядность. Тут были и другие сомненья и страхи, о которых когда-нибудь скажу.
Все в жизни мне давалось столь просто и легко, что даже вовсе не требовало усилия духа или ума. От этого можно было б испытать удовлетворение, – так уж часто я видел мучеников жизни, истертых до крови об ее мельчайшие шероховатости, лишь надраивавшие до блеска прочную капсулу моего естества. Я не бесчувствен, но мои чувства, признаюсь, поверхностны, мало затрагивают душу. Подробности своей жизни излагать не стану, если уж и я сам не задерживал на них внимания. Они даже и мне самому малоинтересны. Не стану уподобляться зануде, который на равнодушное «как поживаешь?» начинает и впрямь рассказывать всю свою жизнь с никому не нужными подробностями. Поверь, друг мой, пересказывать мою жизнь все равно что жевать какую-то серую безвкусную вату. Нет, я вовсе не беспамятен, напротив, схватываю и приберегаю краеугольные вехи своего бытия. Однако, как памятки, небрежные заметки на полях, не напитанные ни счастьем, ни горечью, не в коконе сколь бы ни было ярких чувств или ностальгии. Моя память практична, если что и хранит, то лишь для дальнейшего прямого использования. Даже имени своего, пожалуй, не сообщу. Что в имени моем? Его определенность разве что спутает. Представь себе обычнейшего человека, достойного любого из имен.
Я мог быть вполне удовлетворен своей заурядностью, возможно, и гордился б ею или полагал едва ль не благочестивой, то есть соответствующей заурядности вселенской, в каковом облике виделся мне мир сквозь мои темные очки, сберегавшие зрение. В таком случае роман моей жизни, соберись я его сочинить, оборвался б самое большее на третьем абзаце. Вот на этом самом месте. Был бы наверняка удовлетворен и горд, – притом что совершенная посредственность тоже ведь своего рода талант, – если б не невесть каким образом впившаяся в мою натуру крупинка ереси, прозреваемая мною также и в мирозданье. Впрочем, я, как личность обыденная, путаюсь в диалектике ереси и благочестия. Возможно, эта крупица как раз следствие моей прохладной религиозности, а может быть, связанной с нею опять-таки практичности. Надо ведь хоть что-то припасти, коль вдруг небеса призовут к ответу. Не собрание же общих мест и невеликих жизненных обретений. Как человек органичный существованию, я словно весь вымышлен не собой. Нет, не как ворох всеобщих мест, но подобно четкой и работоспособной системе, механизму, умно слаженному из чужих упований и благоприобретенных умений, которые я заимствовал походя, как прилежнейший ученик срединного бытия, к тому еще замечательный имитатор. Обладающему безотказным жизненным чутьем, для меня даже сознание было излишним, но я благодарен его бледным виденьям, – все же не хотелось бы скоротать жизнь в беспробудном глухом сне.