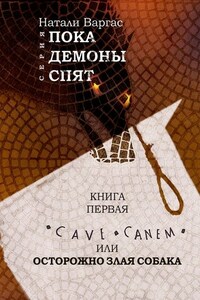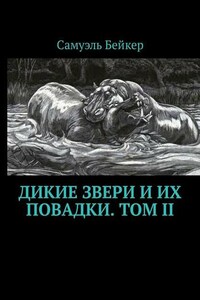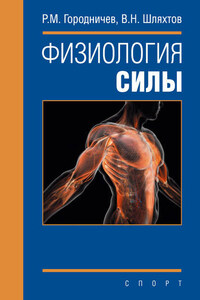Перу, декабрь, 1798 год
– Ей-богу, не бредни это, Сергей Мартыныч! – крестился Каморкин, мичман шлюпа «Апраксин». – Жинка сама все видела и описала мне во всех, вот самых что ни на есть подробностях!
Молодой лейтенант перестал ходить по комнате. Чем больше они ждали, тем тяжелее был груз самой идеи приехать сюда. К шаману. В дом посреди унылой, безжизненной пустыни на побережье Тихого океана. Вернее, это была старая двухэтажная, украшенная маленькими балкончиками с резными ставнями вилла. Просторный закрытый двор с чередой комнат по второму этажу противостоял раскаленному пространству. В доме, хотя и сделанном из дерева, было прохладно и сухо, но все же запах казался просоленным и продымленным.
Уже три года лейтенант Сергей Мартынович Подольский не был дома, не видел отца. На письмо – ни ответа, ни намека. Да и мать его словно в воду канула. Последнее, что ему было известно: отца наняли в качестве поверенного в дом князя Камышева. Отец работал юристом и правил бумаги, о значении которых умалчивал. Дела творились, судя по всему, тайные.
– Так значит, правда, что жинку свою вы пять лет не видели? – спросил Подольский Каморкина.
– Правда, говорю же, – мичман уверенно кивнул. – Я уж думал, делать-то что? Деньги ей отправил, и ничего. Думал, матросик тот с гишпанской брихантины наврал и ни в какой Петербурх он и не собирался плыть. Деньги забрал, серебришко-то мое, и гуляет, подлец, в Мадриде или еще где.
– Ну и? – лейтенант продолжал коситься на дверь, в которую вышел хозяин дома. Терпение его сходило на нет.
– Вот тогда мне приятель один на шамана и указал, ваш благородь. Мол, в нескольких днях пути вокруг нет никого, так что никто и знать не будет. Езжай, говорит, и обратись к этому… – мичман отер лоб, – к хампикамайоку, что ли. Вот.
– Дальше что?
– Ну, я пришел, рассказал, что и как, волнуюсь, мол, знать надо, что с жинкой, ну и с деньгами что… Мужику, хампику этому, рассказал. А он и говорит: сиди и жди. – Тут старик задумался, потер колено. – Через четверть часа вышел он ко мне и говорит, мол, ждет меня жинка и деньги скоро дойдут. Мол, в штиль та брихантина попала, задерживается. И все. А когда вернулся на судно, мы в Патагинии ужо были, тогда-то письмо мне наш квартирмейстер передал. Жинка рапортовала! Ух, и много ж накалякала! Небось Прохор, старый дворовый наш, что грамоту знает, с неделю от пичменного прибора не отходил.
– А в письме-то что было? Говорите, черт вас в бедро!
– Всякое, – мичман помялся, – ну и про то упомянуто. Мол, собралась Фросиньюшка, жинка то бишь, дом закладывать. И вдруг в дверь посередь ночи стучат. Ну, старуха моя порычала, конечно, но дверь Прохору открыть велела, – тут мичман вдруг передернулся, плечи приподнял, сжался и зашептал. – Видят они, во дверях мужик стоит. Кожей темный. Волос черен, как смола, волной до плеч. Не больно высокий, но широкий, статный. А глазища! Казалось, черные, ан нет! Из них будто изумруды мерцали в хлубине. Вот! Тут она с Прохором так и села. Черт какой пришел, думала.
– Ну и? – Подольский присел к рассказчику и в волнении вытянул шею.
– А черт этот, то бишь гость, и говорит по-нашенски. Подожди, мол, дом продавать. Недель через две вам деньги от мужа придут. Вот. И в темноте растворился.
– Вот дела!
– Дела темные. Фросиньюшка в церковь, ясное дело, сходила, но дом отдавать повременила. И как по часам! На пятнадцатый день подлец мой с деньгами пришел! Дьявол такой! И все как хампика тот слово в слово повторил. Мол, в штиль попали мертвецкий, почти весь состав вымер, пришлось команду набирать на гриньланьских островах и там же на зиму остаться. Задержались аж на год!
Каморкин торжественно замолк. Помолчал и Подольский. Встал, прошелся.
– Ну да ладно, – вздохнул он и, смягчив шаг, подошел к заманчивой третьей двери.
Дверей в столовой, где они более часа ждали шамана, было три. Одна открывалась к лестнице, которая вела вниз, в гостиную. Оттуда они и поднялись, войдя в прихожую прямо с парадного входа. Вторая, по-видимому, вела в спальню или кабинет хозяина. Он, встречая их, вышел оттуда. Третьей была та дверь, куда шаман вышел. Ничего, кроме глухих звуков некоего хора, не говорило о том, куда она вела. Во внутренний двор? Песнопение доносилось гулким рокотом, будто звук исходил изнутри колодца. Подольский приоткрыл дверь. Глухой двор! Напротив виднелась лестница, но звуки раздавались снизу.
– Что вы делаете?!! – прошипел мичман. – Нельзя туда!
– А вы не шумите, – бросил ему лейтенант, ступая за дверь.
Мичман затих, но бросать своего товарища не собирался. Так они мелкими шажками по балкону вдоль закрытых дверей прокрались до той самой лестницы, которая спускалась в колодец внутреннего двора. Распевание хора становилось яснее. Это были мужские голоса, нараспев произносящие фразы, смысл которых гости разобрать не могли.
– Не по-гишпански поют. Местный их язык, кечува называется, – снова прошептал мичман. Он крался за спиной высокого лейтенанта, озираясь и прижимаясь к стене, как перепуганная белка к стволу дерева. Двор был открытый, и солнце жгло немилосердно. – Ох, не к добру это наше выступление!
Подольский не слушал. Он перегнулся через перекладину лестницы и застыл. До слуха донеслись отчетливые испанские слова «ле мато, ле мато» («убили, убили»). Голос детский, болезненно сиплый. «Экьен?» («Кто?») – отвечал тому голос хозяина. «Хэнте… хэнте» («Люди, люди»). Лейтенант рысью сбежал вниз. Там, откуда доносились голоса, под лестницей возвышался алтарь, обставленный отнюдь не святыми мощами, а черепами, странными статуэтками и множеством предметов, которые смело можно было назвать колдовской утварью. Плети, камни с непонятными знаками, хвосты, черепки и кости, чаши, наполненные смесями и дымящимися благовонными травами. Алтарь окружали люди с шестами. Они стояли, тихо напевая и постукивая нижними концами шестов о песчаный пол. Стук этот был мягким и ровным, как биение сердца. Глаза гостей были прикованы к фигурам перед алтарем: стоящему на коленях шаману и лежащему перед ним мальчику лет шести. Ребенок явно был европейцем, но столь смуглым, что выгоревшие волосы его, казалось, сияли облачным светом. Он метался в бреду и отрывисто бормотал: «Кон еспальдас… дос сеньерес… лемато эль виехо… кон еспальдас… эста муэрто…» Хозяин удерживал его рукой и тихо вопрошал: «Пуэдес вер а сус карас?» Мальчик стал задыхаться.