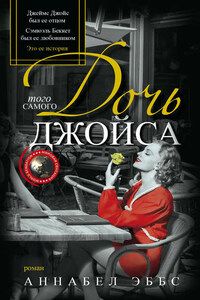Пенни Уилсон страстно мечтала о своем собственном малыше. По крайней мере, я так себе это представляю, потому что предполагалось, что она будет присматривать за мной всего полтора часа, но, по всей видимости, я уж очень ей приглянулась. Наверное, она спела мне колыбельную, потрогала каждый крошечный пальчик на ручках и ножках, расцеловала меня в щечки и нежно погладила головку, подув на мои нежные, как пух, волосы, словно на одуванчик, когда загадывают желание. Зубы у меня тогда уже были, но я была слишком мала, чтобы проглотить кости, поэтому мама, вернувшись домой, обнаружила их лежащими кучкой на ковре в гостиной.
Когда мама в последний раз видела Пенни Уилсон, у той еще было лицо. Я знаю, что мама закричала, потому что любой бы на ее месте завопил. Когда я стала старше, она рассказала, что моя няня стала жертвой какого-то сатанинского культа. В том районе случалось и не такое.
Но никакого культа на самом деле не было. Приверженцы культа не бросили бы меня просто так, а сотворили бы со мной что-нибудь сатанинское, как и положено. Я же просто лежала и посапывала рядом с кучей костей. На щеке у меня подсыхали слезы, весь рот был испачкан кровью. Уже тогда я себя ненавидела. Ничего из этого я не помню, но знаю точно.
Даже если мама заметила стекающую по комбинезончику кровь, даже если она разглядела багровые пятна на моем лице, она не видела. Раздвинув мои губки, она просунула внутрь указательный палец (мамы самые храбрые существа на свете, а моя мама храбрее их всех) и ощутила внутри что-то твердое. Поддев посторонний предмет пальцем, она вытащила его на свет. Это был молоточек, кость из уха Пенни Уилсон.
Пенни жила в том же комплексе, что и мы, через двор от нас. Она была одинокой и занималась разными подработками, так что ее исчезновение могло оставаться незамеченным несколько дней. Мы впервые собирались и переезжали в спешке. Интересно, догадывалась ли мама тогда, насколько отточит эти навыки со временем? В последний раз у нее получилось собрать все наши вещи ровно за двенадцать минут.
Не так давно я спросила ее про Пенни Уилсон: «Как она выглядела? Откуда она была родом? Сколько ей было лет? Читала ли она книги? Была ли она хорошенькой?» Мы ехали в машине, но не потому что переезжали. Мы никогда не говорили о том, что я сделала, после того как я это сделала.
– Зачем тебе все это знать, Марен? – вздохнула мама, потирая глаза большим и указательным пальцами.
– Просто так.
– Она была блондинкой. С длинными светлыми волосами, всегда носила их распущенными. Она была еще молодой – моложе меня тогда, – но не думаю, что у нее было много друзей. Она всегда казалась застенчивой.
Голос мамы вдруг дрогнул, как будто, копаясь в памяти, она наткнулась на нечто, что не хотела вспоминать.
– Помню, как у нее загорелись глаза, когда я в тот день спросила, не хочет ли она посидеть с тобой.
Помрачнев, мама смахнула слезы тыльной стороной ладони.
– Вот видишь? Какой смысл вспоминать о том, чего нельзя изменить. Что сделано, то сделано.
Я минуту подумала.
– Мам?
– Да?
– А что ты сделала с костями?
Она так долго думала над ответом, что я уже начала бояться ответа. В конце концов, мы всегда возили с собой один чемоданчик, который я никогда не видела открытым. Наконец она сказала:
– Есть вещи, о которых я никогда не расскажу, сколько бы ты ни просила.
Моя мама была добра ко мне. Она никогда не говорила «что бы ты ни натворила» или «кем бы ты ни была».
Мама уехала. Встала еще затемно, собрала кое-какие вещи и уехала на машине. Мама меня больше не любила. И как я могу обвинять ее, если она никогда меня не любила?
Иногда по утрам, когда мы жили в каком-то месте достаточно долго, чтобы начать забывать, она будила меня песней из «Поющих под дождем».
«Доброе утро, доброе утро… Всю ночь мы говорили напролет…»
Только вот голос у нее при этом был всегда грустным.
Тридцатого мая, когда мне исполнилось шестнадцать, она вошла, распевая. Было субботнее утро, и мы собирались приятно провести день. Я обняла подушку и спросила:
– Почему ты всегда поешь так?
Она распахнула шторы, щуря глаза от солнца и улыбаясь.
– Как – так?
– Как будто ты предпочла бы лечь спать пораньше.
Она плюхнулась на кровать возле моих ног и погладила мое колено через одеяло.
– С днем рождения, Марен!
Я давно не видела ее настолько счастливой.
Во время завтрака, поглощая посыпанные шоколадной крошкой блинчики, я засунула руку в пакет с подарком и нащупала внутри толстую книгу – «Властелин колец», три тома в одном – и подарочную карту Barnes & Nobles[1]. Бо́льшую часть дня мы провели в книжном магазине. Вечером она свозила меня в итальянский ресторан – настоящий итальянский ресторан, где все, и официанты, и шеф-повар, говорят на своем родном языке, на стенах висят черно-белые семейные фотографии, а одного минестроне достаточно, чтобы наесться на весь день.
В зале царил сумрак, и я, пожалуй, навсегда запомню, как на лице мамы плясали отблески свечи, горевшей в красном стеклянном стакане, и как она подносила к губам ложку. Мы говорили о том, как идут дела у меня в школе и у нее на работе. Поговорили о моем предполагаемом поступлении в колледж: на кого я захочу учиться и кем могу стать. Потом официанты принесли мягкий квадрат тирамису со свечой и пропели мне на итальянском «Buon compleanno a te».
После мама отвела меня на последний сеанс «Титаника», и я на три часа погрузилась в то, что показывали на экране, как обычно погружаюсь в свои любимые книги. Я была красивой и храброй; мне суждено было испытать любовь и выжить, обрести счастье и прекрасные воспоминания. Реальная жизнь ничего такого мне не обещала, но в приятной темноте старого, обветшавшего кинотеатра об этом можно было позабыть.
В кровать я свалилась усталой, но довольной, предвкушая, как утром я буду поглощать остатки праздничного ужина и читать новую книгу. Но когда я проснулась, в квартире стояла какая-то необычная тишина и кофе не пахло. Что-то было не так.
Я спустилась и обнаружила на кухонном столе записку:
«Я твоя мама, и я люблю тебя, но я так больше не могу».
Нет, это невозможно. Она не могла бросить меня. Как она посмела?