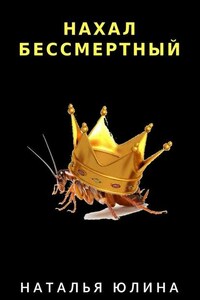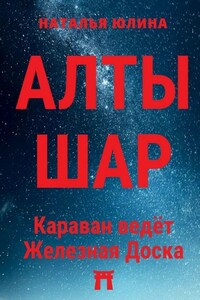Но вот я уже вроде взрослая. Дядька Витька, тот самый, кто сажал меня на абажур, как-то, когда мне уже шло к тридцати, спросил меня: – Что замуж не выходишь? Дураки все?
– Ага, – говорю, – не дураки, так дурни, если не дурни, то придурки. Корень один.
Но природа мстительна, как никто другой.
Мне 24, и я влюбляюсь.
Мы учились на курсах английского языка. Кончались занятия поздно, и он провожал меня до дома. Проходя мимо тенистых деревьев сквера, мы останавливались. Объятья распаляли, но мозг сопротивлялся. Какое определение подходит, не думала, но ясно было, не то. Моя Гордость смотрела ему в глаза и спрашивала, ты кто? Предубеждение отвечало, нет, нет и нет. Вместе они образовывали айсберг ГП, грозивший вот-вот обрушиться в воду.
Сегодня я смотрю на нас двоих как будто со стороны.
Вот мы гуляем в Сокольниках. Нашли укромный уголок и остановились, чтобы целоваться. Сейчас в моей памяти о том дне он – виртуальный персонаж, да и я – подсадная утка любовной охоты.
Теперь вижу, что было полное и абсолютное неприятие друг друга: голое влечение безо всякого желания узнать что-нибудь о другом. Это и есть «первая любовь»? Тем невнятнее причина моих переживаний. Ты хочешь о чувствах? Пожалуйста. Мы, влюбленные, – два пузыря надутые гордостью и желанием.
Дошло до того, что по телефону сказала ему: «я люблю тебя». Кстати, первый и последний раз в жизни. Мне кажется, что эти слова, по крайней мере в нашем случае, похожи на заклинание самого говорящего.
Он ответил: «а я нет».
Гордость и Предубеждение, взявшись за руки, поплелись в темный чулан, чтобы там вспоминать своё героическое прошлое, и пришла мне в голову мысль о суициде. Тут Гордость и Предубеждение, уже сильно потрепанные, вылезли из чулана и в два козлиных голоса пропели: ДУУУРА.
Оставалось броситься в омут разврата, то есть выдумать «любовь». Это значило, подчиниться человеку, к которому не испытывала ничего, кроме уважения и любопытства.
После первого секса четыре года я не могла себе представить, что издевательство над собой, в простоте называемое наслаждением, я могу повторить.
Я получила шок такой силы, что Гордость и Предубеждение, заламывая руки и невнятно что-то бормоча, ушли из моей квартиры искать лучшей доли. Что спасало? – Однообразие жизни, узкие стены, что держат людей. Каждый день после работы ехала в Ленинку, сидела там до закрытия. Взахлеб читала Достоевского в дореволюционном издании с ятями, потом ехала к подруге Наташе, и в два ночи возвращалась домой. Я закрылась в раковине, как моллюск.
В эти четыре года, если в метро мерещилось лицо того человека, я, как заяц, неслась подальше от этого места. И сердце от страха билось, как у того зайца…
Длинные одинокие тропы в чахлых зарослях моего разума вели в темный лес подсознания. Первый поэтический плен – «Демон» Лермонтова.
Лермонтов, как это у него выходит, не знаю, пишет про себя, и всем читателям, булавкой пришпиленным к своим личным несчастьям, именно это в самый раз, не оторваться. Ни содержанию, ни магии стиха я не подчинялась, но выбраться из плена не могла и не хотела. «Мцыри» – выход к яркой зелени предгорий, это про меня.
Единственная калитка в жизнь – альпинизм.
Занялась альпинизмом. Человечество, как казалось, не стоит того, чтоб к нему приближаться, но другого-то ничего нет, ни математики, ни книг, всё исчезло в черной дыре. Казалось, моя тропа вела в душный, чужой, незнакомый мир.
Конечно, работа у энергетиков позволяла брать отпуск за свой счет, и я ездила в альплагерь по два раза в год. Чтобы сдать нормы, бегать надо было каждый день, особенно, таким как я, не предназначенным природой для альпинизма. Так получилось, что всю жизнь я относилась к бегу, как к любимому развлечению. Думаю, среди моих предков встречались, или древнерусские гонцы, или спартанские вестники, те самые, кто, прибежав и вручив донесение, падали замертво. Я никогда не падала замертво, пробежав по стадиону Плющихи четыре круга, но подходила к дереву, древнему, но крепкому, с невообразимым количеством веток, как будто нарочно выросших для быстрого и легкого подъема на него, и также быстро спускалась, не засиживаясь наверху.
Теперь этот стадион огорожен человеко-непроницаемой изгородью, в ней всего один вход, а у него никогда не спящий молодой охранник в своей около военной форме. Да и бегать там неинтересно – всё зализано, дерева никто не помнит, зато живут своей пластмассовой жизнью три ряда желтых и синих трибун, отдаленно напоминающих слипшиеся леденцы. Всё по стандарту, мы с деревом в него не вписываемся.
Итак, сдаем нормы. Для этого устраивали слеты какого-нибудь общества. Например, «Буревестника» или «Труда» – это в Царицыне или еще ближе к Москве, но однажды второго мая я участвовала в городском слете альпинистов. Вечером нас привезли на другой берег Истринского водохранилища, и скоро маленькие костры слились в один, где под гитару всю ночь продолжались песни. Разошлись, когда рассвело, но я, переполненная впечатлениями, не могла идти спать. Отошла от лагеря и увидела, как над выпуклым лугом только что вылезших растений показался край красного солнца, и каждый лист зажег бусину росы.
Легла в свою палатку, а через три часа начался кросс. Уже к вечеру сварили на нашу группу в пять человек ведро борща, сели вокруг и медленно поглощали бордовое варево. В голове звучал игривый мотив: апрель, апрель на улице, а на улице февраль, еще февраль на улице, а на улице апрель. Но голова болела так, что больно было шевелиться.
Альпинизм, конечно, придуман для сближения с человечеством, но мехматская гордыня изживалась с трудом. И вот, я несколько раз еду в лагерь, и, наконец, делаю третий разряд.
Лечь спать в полной амуниции, даже с карабином на груди и в триконях, чтобы в два встать и идти на вершину, иначе таяние льда, и велика опасность схода лавины. Если бы мы, все двадцать человек, разделись, то не смогли бы в полной темноте собрать палатки, одеться и выйти на восхождение так, чтобы больше сюда не возвращаться.
Кому как, а для меня кульминация – не момент на вершине, а сам подъем в связке, ощущение правды того, что ты делаешь на высоте четырех тысяч метров. Каждый шаг, каждый выступ скалы, каждый лед не похожи на другие уступы, другие зацепы, другие ледники – ничто в горах неповторимо. И спуск вниз с чувством, что настоящее осталось позади, что оно было, и значит, никогда не может исчезнуть.