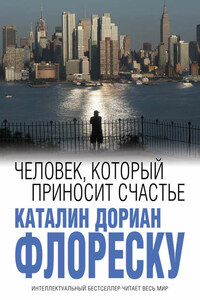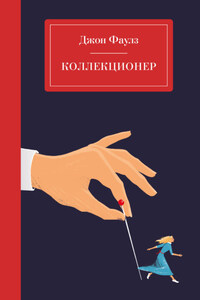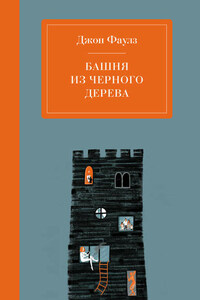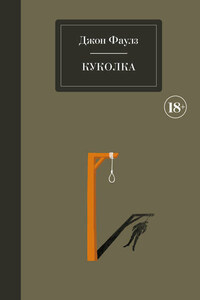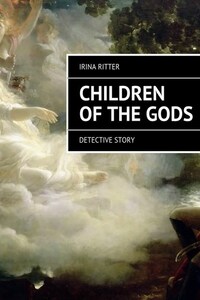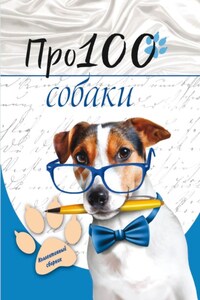Река мягко принимала мертвых, словно зная, что эти мертвые – особенные. Сколь бурным ни бывал иногда Ист-Ривер, сейчас, в утренних сумерках, он раскинулся широкой свинцовой лентой. Он был терпелив, не желая мешать людям в их деле. Сегодня он больше не получит покойников из гетто, зато получит других. Это было совершенно ясно.
На берегах Манхэттена всегда хватало желающих вверить себя водам Ист-Ривер – отчаявшихся, уставших, сумасшедших. Да и тех, кто вверял им других – жертв грабежей и сведения счетов. Пролив не привередничал. Через несколько дней он избавлялся от тел, вынося их к берегу – от причалов суетливого порта на юге до песчаных пляжей и ветхих мостков Бронкса на севере.
Это не реке приходилось мириться с тем, что город построили именно здесь, а человеку. На этот раз он решил остановиться и безучастно наблюдал, как экипаж небольшого парохода грузит на борт маленькие белые гробики, едва отличимые от снега, который шел со вчерашнего вечера и теперь укрыл все толстым слоем.
Дело для команды было привычное. Дважды в неделю пароход отвозил свежих покойников из гетто на остров Харт. Руки матросов хорошо знали, что делать, и работа спорилась. Капитан, человек мрачный и грубый, следил за погрузкой, стоя у релинга. Он тоже привык покрикивать на подчиненных, чтобы те поторапливались. А мой дед – тогда еще мальчишка лет четырнадцати-пятнадцати – привык смотреть, как пароход отчаливает от пристани, а потом тяжело и лениво берет курс на бедняцкое кладбище.
Обычно дед смотрел на пароход совсем недолго, проходя мимо. Он спешил, ведь нужно было раздобыть несколько центов и что-нибудь забросить в урчащий желудок – например, черствый бутерброд с селедкой или с огурцом, а может, даже съесть несколько кнышей и похлебать наваристого борща на Орчард-стрит в еврейском квартале.
Дед, как и река, не привередничал. Не важно, кто тебя кормит, ирландцы, итальянцы или евреи, главное – чего-нибудь пожрать. А если к вечеру остается шесть центов на ночлежку для разносчиков газет, то день удался. И уж совсем шикарно, если ты заработал еще и на жевательный табачок.
Дед никогда не признался бы, что этот пароход имел для него какое-то значение, хоть он и видел не раз, как тот пыхтит мимо Ист-Сайда со своим никчемным или драгоценным грузом. Это как посмотреть.
На борту было пока всего лишь несколько покойников, их имена никому ни о чем не говорили, а иногда имен у них не было вовсе, например у новорожденных, умерших некрещеными. Часто их никто не провожал на причале. Поскольку они не могли себе позволить даже смерть, их жалкие похороны оплачивал город. Хотя бы раз, единственный раз, город платил за них.
Когда дед чистил сапоги в конце Деланси-стрит, когда стоял на перекрестке где-нибудь между Юнион-сквер и Чатем-сквер и пел сиюминутные шлягеры, когда продавал газеты у ворот завода или синагоги, пароход был для него лишь отдаленным воспоминанием. И когда он дрался за окурок или остатки пива в бочонке возле бесчисленных кабаков – тоже. Всего лишь воспоминанием, но воспоминанием неизгладимым.
Никто из тех мальчишек ни за что не признался бы, что этот пароход для них что-нибудь значит, но каждый раз они себя выдавали. Смотрели на него чуть дольше или сплевывали табак чуть равнодушнее, пробормотав: «Да уж, в ящик сыграть недолго».
Истсайдские покойники проплывали мимо них регулярно. И добавить тут было нечего. В жизни и так хватало трудностей, чтобы еще обременять ее смертью. Но если бы тогда кто-нибудь спросил деда, с глазу на глаз, то, возможно, он сказал бы, что совершенно точно не хочет одного: оказаться там, куда уходит этот пароход. Но никто не спрашивал. Никого не было. Он был один.
«Volevo an impressive funerale»[1], – говорил он уже стариком на своем странном смешанном наречии. Черную карету со стеклянными стенками, чтобы было видно, как он лежит в лучшем костюме из тонкого сукна. А следом – духовой оркестр. Так ирландцы и итальянцы провозили своих покойников через гетто. На это они тратили последние деньги, если таковые были. Вот каких похорон он хотел, но не получил. В итоге за дешевым гробом шли только мама, Паскуале и я.
Первого января 1899 года дед стоял на полпути между Бруклинским мостом и Ратгерс-слип, где он купался летом, и наблюдал за движением на пристани. Он рассмеялся бы в лицо любому, кто сказал бы, что Ист-Ривер на самом деле вообще не река, а вытянутый морской пролив. Обитатели гетто воспринимали его не иначе как реку, которой они доверяли свои отходы, испражнения, своих мертвых. Река омывала людей, и иногда они сидели на ее берегу, чтобы на несколько минут отвлечься от городской тесноты.
Дед был доволен, ведь в последний день прошлого года он продал на Нижнем Бродвее немало газет, хотя основной его клиентуры на улицах почти не осталось – торговцам вразнос всегда была нужна упаковочная бумага, но многие из них спасовали перед воющим ветром и даже не вышли на работу.
Вчера он во всю глотку кричал: «Сенсация! Сенсация!» – это действовало почти безотказно. Столько «сенсаций», сколько он выкрикивал, просто не могло быть на свете. На Элизабет-стрит, где жила в основном ирландская беднота, его сенсации касались англичан, подавлявших Ирландию. На Малберри-стрит сенсации – покушение на короля, засуха; эпидемия в Старом Свете предназначались итальянцам. На Орчард-стрит конечно же было важно ругать русского царя.
Шеф деда Падди-Одноглаз наставлял его: «Если в городе убийство, кричи “сенсация” один раз. Евреев выгоняют из Москвы и Киева? Евреи гибнут от великого голода в России? Дважды “сенсация”! А когда ничего не происходит, кричи “сенсация” три раза, чтобы хоть что-то продать». Кричать «сенсация» – никогда не повредит. Только по умершим в гетто никому не пришло бы в голову кричать «сенсация».
Одноглаз был всего на три-четыре года старше деда, но уже великий знаток сенсаций. Кличку свою он получил не за отсутствие глаза. Нет, ему не хватало трех пальцев на руке, но глаза были на месте. «На этот раз я, так и быть, закрою на это один глаз, – говорил он мальчишке, продавшему слишком мало газет, – но в следующий раз не забывай, что у меня два глаза. Так что поднапрягись». Вот так он каждому давал второй шанс.
Мальчишки боялись не столько тяжелой руки Одноглаза, он редко ее поднимал. В гетто хватало тяжелых рук: у полицейских, у старших парней, у торговцев, если ты что-нибудь стащил с их тачки. У отца тоже была тяжелая рука, если у мальчика был вроде как собственный отец. Если он давно не скрылся в западном направлении, прочитав плакат, обещавший золотые самородки размером с человеческую голову.