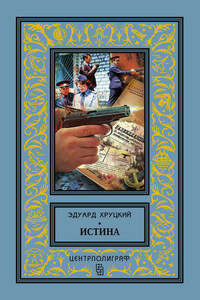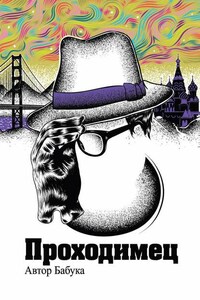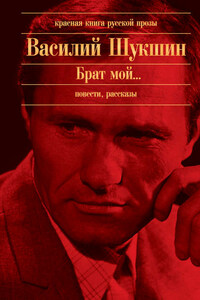Когда дежурный по Совету милиции доложил, что машина подана, я еще раз перечитал телефонограмму начальника Московской уголовно-разыскной милиции:
«…Список похищенного в Патриаршей ризнице покуда не составлен, однако, по словам архимандрита Димитрия, стоящего во главе попечения о ризнице, и архиепископа Грозненского Михаила, ущерб составляет несколько десятков миллионов золотых рублей… Антисоветскими элементами распространены слухи, будто из ризницы исчезли реликвия православной церкви: хитон Иисуса Христа и часть ризы Богородицы. В связи с этим возбужденная толпа обывателей окружила ризницу. Возможны нежелательные эксцессы и самосуды. Прошу принять срочные меры…»
Ну конечно, сам начальник уголовно-разыскной милиции никаких мер принять не мог. Этим, по его мнению, должен был заниматься Совет милиции.
– Комендатура Кремля оцепила ризницу? – спросил я у дежурного.
– Не знаю, товарищ Косачевский. Никак не могу с ними соединиться.
– А Дубовицкий уже на месте происшествия?
– Тоже не знаю.
– А что вы знаете?
Он вымученно улыбнулся, вздохнул и положил брошенную мною телефонограмму в синюю папку, на обложке которой было вытиснено: «Градоначальничество города Москвы». И дежурный и папка перешли к нам по наследству. Неважное наследство…
Приказав протелефонировать об ограблении Патриаршей ризницы председателю Совета милиции Рычалову, я в сопровождении Артюхина вышел на улицу.
Было еще темно, но густой морозный воздух уже сотрясали звуки бесчисленных колоколов, зовущих к ранней обедне. Подхваченный ветром колокольный гул плыл над Тверской, над голыми черными деревьями, над гребнями еще не разобранных баррикад.
Бум, бумм, буммм…
Блекли тени на сугробах бульваров. Ветер волочил по обледеневшим булыжникам мусор и выпавший за ночь колкий снег.
Холодно, тоскливо, неуютно.
Возле пушек перед рыжим фасадом Московского Совдепа зябли в своих долгополых шинелях солдаты-двинцы. А с противоположной стороны Тверской глядел на них, подняв над головой шашку, застывший от мороза чугунный Скобелев.
– Помочь? – спросил Артюхин у шофера, который уже добрых десять минут крутил ручку мотора.
– Чего там, обойдусь… – Парень вытер пот со лба и вновь принялся за свое, похоже, безнадежное дело. Большой черный кот, покосившись на автомобиль, рысцой перебежал дорогу.
– А чтоб тебя! – расстроился Артюхин.
Москва просыпалась. То там, то здесь вспыхивали желтым светом окна домов. Мелким перебором прозвенел груженный дровами трамвай. Мимо чугунного генерала к гостинице «Дрезден» прошел отряд красноармейцев. Выползали на улицу дворники. Лениво переговаривались у соседнего особняка, где на спускавшемся с балкона полотнище красовался манифест пананархистов.
«Дворники, творите анархию! – призывал он. – Швейцары, творите анархию! Кандальщики, воры, убийцы, проститутки! Сыны темной ночи, станьте рыцарями светлого дня… Творите анархию!»
Судя по оплывшим лицам дворников, которым предстояло стать «рыцарями светлого дня», они не столько были озабочены проблемами анархии, сколько желанием опохмелиться. Впрочем, некоторые, повинуясь привычке, лениво скребли лопатами панель.
Вконец выведенный из терпения шофер длинно и изобретательно выругался. Кажется, это и сломило сопротивление автомобиля. Мотор закашлял, засопел.
– Можно ехать, товарищ Косачевский, – сказал шофер. – Только вы уж папироску бросьте: как бы взрыва не было. Не лошадь какая – техника.
Артюхин, большой, грузный, с карабином за плечом, предупредительно открыл передо мной дверцу:
– Пожалуйте, Леонид Борисович.
Это у сибиряка получилось почти изящно: вышколенный адъютант, да и только.
– Через Столешников и по Большой Дмитровке? – спросил шофер.
– А то, – подтвердил Артюхин. – По Тверской как поедешь? Разве что в ускок: булыжники-то вывернуты. Надо бы замест нетрудового населения мужика сюда. Мужик бы враз все замостил. А эти что? И лома в руках не держали…
Собственно, до Кремля было рукой подать, но Артюхин считал, что заместитель председателя Московского совета милиции обязан разъезжать по делам только на автомашине, благо таковую нам выделили еще в декабре.
– Кнопку нажми, – приказал он шоферу.
– Зачем?
– Для авторитетности, елова шишка!
Шофер надавил на клаксон, и Дмитровка огласилась таким хриплым ревом, что часовой в шубе, мирно дремавший у подъезда какого-то учреждения, дико завертел головой и потянулся за винтовкой.
– Вот это по-нашему, – удовлетворенно сказал Артюхин.
На Красной площади было уже довольно людно. Темнела толпа у часовни Иверской Божьей Матери, группами и поодиночке брели богомольцы в сторону Никольской улицы, к Казанскому собору. Поврежденные артиллерийским обстрелом часы на Спасской башне неизменно показывали тридцать пять минут четвертого. Время для них остановилось…