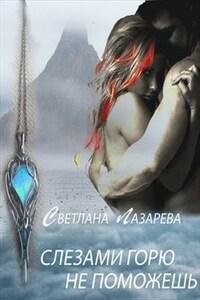Глава первая. Входная дверь
Все это несомненно было и разыгралось в целую историю.
Умы рабские искренно верили в эволюцию идей, питали туманные надежды на соответствующее изменение обстоятельств, с инстинктивным, почти физическим страхом думали о всякой революции. Они желали и боялись ее одновременно: они критиковали существующий строй и мечтали о новом, как будто он должен был появиться внезапно, вызванный каким-то чудом, без малейшей ломки и борьбы между грядущим и отжившим. Слабые, безвольные люди мечтали, не имея ни сил, ни желания достигнуть своей цели.
Задавались дни.
Досаждала жара, а когда жар стал посваливать, явились сулящие непогоду тучи.
Вкрадчивые осенние шорохи складывались в неведомые шуршащие слова.
Земля после дождя пахла петрикором, а нажимавшие пальцами на глазные яблоки видели фосфены. Кому-то являлся парастас, запросто подхватить можно было трипеснец.
Государь лишил автора остатков своего расположения: кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки: сработала интуиция.
Стрекулисты выказывали непонимание самых простых вещей, как-то: жизнь и сознание при интуиции имеют дело сами с собою; интеллект же характеризуется природным непониманием жизни.
Дамы из черного бархату понашивали себе бурнусов с огромными рукавами; бурнусы обшили толковой тесемкой со стеклярусом.
Яркие полевые цветы распустились в витрине мадам Матильды на Невском.
Ливрейные лакеи более не садились на козлы, а пристраивались на запятках и ехали позади, держась за басонные поручни.
Богатые вдовы обивали кареты черным; шоры были без набору.
Кучера сидели одною ногой наружу, приготовляясь кричать на прохожих – в Петербурге местами была преужасная мостовая: из неровных камней, хуже что незабороненное поле.
Гащивать приезжали на несколько дней.
Все было необдуманно, с размаху, самодовольно и ретроградно.
Большая часть интеллигенции жила в мире фальшивом, населенном призраками, фантасмагорией, мнимыми влечениями, мнимыми потребностями, мнимыми идеалами и немнимым невежеством.
Натурализм заменился нисколько не менее уродующим действительность психологизмом: Анна входила у Толстого в уборную, но ни разу, в отличие от того же Вронского, не брала ванны!
Входная дверь оправлена была в багрец и золото – моральная красота сей нелепости оправдывалась двумя словами: лес, Пушкин.
Глава вторая. Фланеры и кокотки
Бог мыслит вещами.
Убранство комнаты было ни зальное, ни гостиное, а то и другое вместе – стояли и мягкая мебель, и буковые стулья, и зеркало, и рояль заваленный нотами.
Александра Станиславовна протянула руку прощаться, она ласково прижалась к гостю, точно виноватая.
Она точно была виновата перед ним: она в него не верила.
Иван Матвеевич умел держать себя под выстрелами так же спокойно, как его товарищи; гражданская война в Боливии закончилась, и он в звании боливийского генерала возвратился на родину.
С тех пор она видела его довольно часто, но их отношения оставались чисто внешними; из Америки он привез ей затейливую вещицу.
«Предметик!» – тогда он назвал, отчасти зараженный педантизмом.
Принужденно тогда она смеялась.
В прихожей он надел шинель на меху гуанако с седым, андского очкового медведя воротником.
– Выйти из одиночества и достигнуть блаженства! – теперь пожелали они друг другу.
Через минуту он был на улице: старомодный, устарелый, не принадлежавший своему поколению и своему времени.
Она хотела было раздеваться, но сняла только платье: лиф из крепдешина с золотыми шариками был низко вырезан на стане и на груди окаймлен белым рюшем, приятно оттенявшим розовато-белое тело нестарой женщины.
Иван Матвеевич, выйдя наружу, тут же слился с неясной мыслью, разлитой в мировом пространстве – а, может статься, ощутил готовность к слиянию.
В прихожей у Александры Станиславовны на ясеневом подзеркальнике заметил он визитную карточку Пушкина. Угол был загнут.
Фланеры и кокотки попадались все реже – отдавший дань молодости генерал давно распрощался с ее увлечениями; всем, повстречавшим его на пути, являлась ранее не приходившая в голову мысль, что борода, по сути своей, аналогична застывшей гримасе – искаженным, сдвинутым с мест и лишенным правильного соотноношения чертам лица, а потому эта самая борода вполне тождественна маске.
Отставной боливийский генерал Иван Матвеевич Муравьев-Опоссум всегда был гладко выбрит.
Александра Станиславовна Шабельская, недавно овдовевшая, из потайного места достала привезенную генералом вещицу.
Негромкое приятное жужжание раздалось в ночи.
Покойный господин Шабельский не пользовался ни вышитыми вещами, ни предметами личной гигиены.
Он мог облиться слезами над вымыслом, и Александра Станиславовна предоставляла ему такую возможность.
Глава третья. Розовое лицо
Его природная рассеянность, обвенчанная жестокими прелестями, рассыпáлась серебряными блестками воспоминаний: среди разноцветных скал, бурливых речек, причудливо изогнутых какао-деревьев, там, он чувствовал себя причастным к жизни природы.
«Личная гиена!» – вспоминал он.
В Боливии бывало всякое.
Чепец из белых блонд будировал всех – кто-то забросил его за мельницу, а индейцы нашли: люди другие, обстоятельства и обстановка другие, другие вопросы, а дух тот же самый!
Орхидея, принявшая форму пчелы, желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых: ему привиделось, что Александра Станиславовна приняла форму платья, в котором она находилась, – а если бы она натянула звериную шкуру?!
Ей было неловко в этом платье, она оправдывалась очень темно, заносчиво и истолковывала себя довольно бестолково.
«Зодчий – костистый дед, с лицом, искусанным пчелами, – обронила она среди прочего, – он бородат и у него пропали стены!»