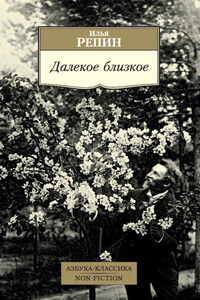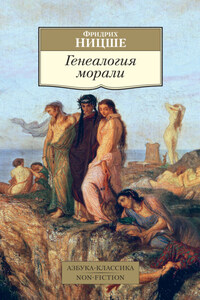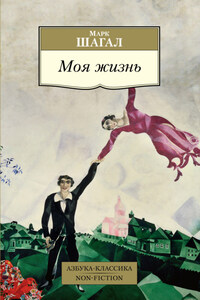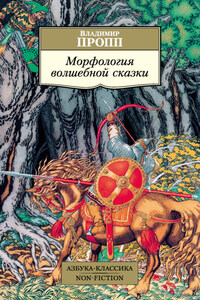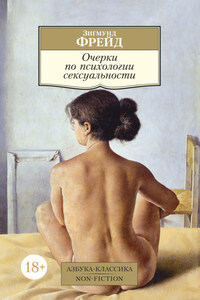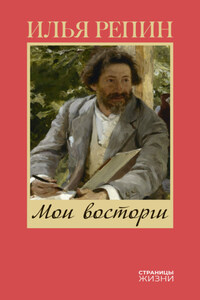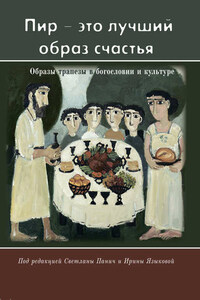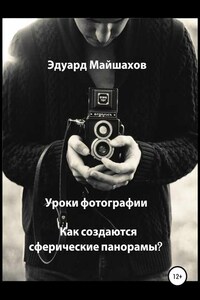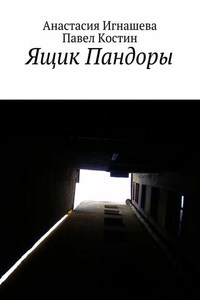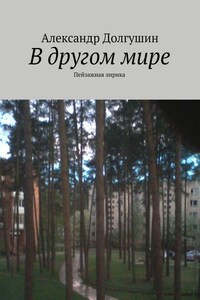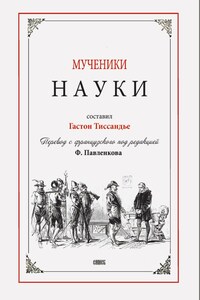Впечатления детства
1844–1854
>I
Объезд диких лошадей. – Калмык
В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор.
Домом правила бабушка. Широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос, она с раннего утра уже ворчала и бранилась с работниками и работницами, переворачивая кадки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе.
Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза.
Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие, проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег: подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса черными квачами[1] из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов[2] сено, бо́льшая часть его падала им под ноги, в навоз, затаптывалась.
Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались.
Каждую весну они отправлялись в «Донщину» и приводили оттуда табун диких лошадей.
На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов, лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево (три-пять рублей за голову), но пригнать из-за трехсот верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил:
– Тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье!
Дядя Иваня, вечно на коне, в шапке-кучме (папахе), был черен, как черкес, и ездил не хуже их, но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадью – одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека.
У нас на Руси широки столбовые дороги, есть где табуну пастись на даровой траве и отдохнуть всю ночь. Но боже упаси заснуть погонщику близ яровых хлебов! Дикие кони тихой иноходью – уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба.
Проснулись хохлы-сторожа, с дубинами и кольями бегут загонять табун… Поди выкупай! Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот… Наконец перекрестятся:
– Оце, мабудь, сам чортяка! А хай йому бiс!.. Нечиста сила![3]
В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась кручей к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого «золота» вместе с обвалившимися берегами кручи! Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле.
При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми огненными взглядами и грозным храпом, степняки казались чудовищами, к ним невозможно было подступиться – убьют!
Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове, по шее скатилась до надлежащего места, и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать! Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки и тем энергичнее старается она оборвать веревку: то подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем.
До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и, когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника: он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремена, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила (трензель), чтобы лошадь не закусила…
– Отвязайте аркан! – командует калмык пересохшим голосом.
Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники мигом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша.
Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся.
И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть с себя седока; и опять начались дикие прыжки, взвивание на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть.
Калмык крепко зажал коня икрами в шенкеля и повернул его к воротам. «Отворяйть ворота!» – визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота. Калмык гикнул на всю улицу, эхо отозвалось в лесу за Донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузниц, за Донец… Скоро и след его простыл, только столб пыли висит еще в воздухе…
Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой; она была совсем темная. Калмык сидел спокойно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо кверху; глаза его, «прорезанные осокой», казалось, спали.