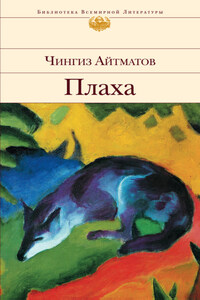«...без него я не имел бы живого, наглядного представления о типе тех евреев, которые после Христа создали Христианство». Такими словами Владимир Соловьев охарактеризовал личность И.Д. Рабиновича, основавшего в 1884 году в Кишиневе иудео-христианскую общину «Вифлеем». Не принимая ни одной из исторически сложившихся христианских церквей, Рабинович видел смысл своей веры в проповеди истины обетованного Мессии, живого Христа. Все остальное для него было второстепенным и исторически обусловленным. Но разве не эта вера в Мессию определяла и деятельность первых апостолов, спрашивает философ? «Вся истина была дана во Христе, – продолжает он, – но не вся сразу раскрыта для христианского сознания. Только при полном равнодушии к исторической правде можно утверждать, что все догматы православия, ныне нами усвоенные, исповедовались явно и определительно всею Церковью с самого ее начала – от времен Христа и апостолов... Как тогда, так и теперь, именно с этой мессианской истины должен был начинать верующий иудей, чтобы на своей религиозно-исторической почве сознательно принять христианство». Правда, по мнению Соловьева, единственная ошибка Рабиновича заключалась в том, «что от евреев, еще не верящих в истину христианства, он прямо требовал, чтобы они относились к христианскому миру так, как если бы они уже были истинными христианами, требовал, чтобы они сразу простили и забыли все то зло, которое они перенесли в христианском мире».
Впрочем, не будем более утомлять читателя пространными историческими обзорами. Мы едва ли бы обратились к прецеденту давно забытой кишиневской общины, если бы не нашли в ней определенного сходства с опытом главного героя замечательной книги Людмилы Улицкой. Но только определенного... Оба, и Рабинович, и Даниэль Штайн-Руфайзен, искали во Христе подлинного Мессию, обетованного Израилю. Оба совершали богослужения в своих общинах на родном языке – один на идише, другой на иврите. Оба пытались понять, как веровал их Учитель. И оба потерпели неудачу. Созданные ими общины смогли продержаться всего лишь несколько лет и прекратили свое существование после смерти их основателей. Не оказалось ли для них христианство тем «недоразумением», о котором говорил Ф. Ницше?
Нет, не оказалось. По крайней мере, для героя этой книги и его реального прототипа – не оказалось. Почему? Послушаем самого Даниэля Штайна: «Когда я приехал в Израиль, мне было важно понять, во что веровал наш Учитель? И чем более я углублялся в изучение того времени, тем яснее осознавал, что Иисус был настоящим иудеем, который в своей проповеди призывал выполнять заповеди, но считал, что одного исполнения – мало, и только любовь – единственный ответ человека Богу, и главное в поведении человека – непричинение зла другому, сострадание и милосердие. Учитель призывал к расширению любви. Он не давал никаких новых догматов, и новизна его учения заключалась в том, что Любовь Он ставил выше Закона...»
Это – слова Даниэля Штайна, достойно пережившего Шоа, Катастрофу европейского еврейства. Они прямо или косвенно могли бы быть произнесены Паулем Целаном, автором бессмертной «Фуги смерти», или Арнольдом Шенбергом, пронзительно озвучившем кошмар гетто в «Пережившем из Варшавы», или Эли Визелем, гениально передавшем ночь человеческой экзистенции в своей «Ночи», или Клодом Ланцманном, трезво повествующем о погружении в небытие, или... имже несть числа...
«И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающими. Бог может быть только со страдающими, и никогда – с убийцами. Его убивали вместе с нами. Страдающий вместе с евреями Бог был мой Бог. Я понял, что Иисус действительно был Мессия, и что Его смерть и Воскресение и есть ответ на мои вопросы».
Как Дитрих Бонхеффер смог проложить путь христианской ортодоксии после Шоа, так попытался осуществить христианство Даниэль Штайн-Руфайзен в ортопраксии.
«...только христианская практика, то есть жизнь умершего на кресте, пусть живет она, она – христианская... Еще сегодня такая жизнь возможна, для определенных людей даже необходима: подлинное, первоначальное христианство возможно во все времена», – произнесет разочарованный во всем Ницше.
Да, оно возможно во все времена, с надеждою скажем мы.
Священник Игнатий Крекшин,
Тюбинген
1. Декабрь, 1985 г., Бостон.
Эва Манукян
Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, под обжигающим солнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому, что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок.
У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с двух лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки – рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в шестнадцатилетнем возрасте до ее возвращения из лагеря.
В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на шестом месяце беременности. С ней был мой шестилетний брат Витек. Родилась я километрах в ста от Эмска в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а три сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами.
Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб – через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только триста.
В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была заслана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в тридцать шестом от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава богу, крайне редкое.