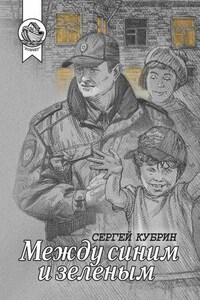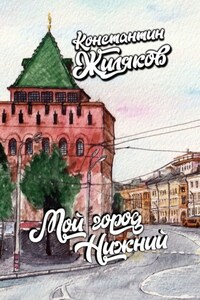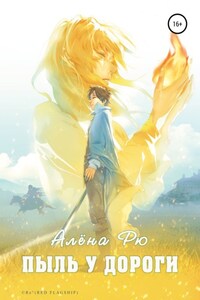– Она точно не умерла? – шептались испуганные люди, окружившие ее криво замершее на асфальте тело.
– Она не умерла, – подтвердили позже врачи и подключили к аппарату искусственного дыхания.
Грузия впала в глубокую кому. Неспособная ходить на собственных ногах, она свалилась, едва сделав несколько самостоятельных шагов, сломала себе позвоночник, расколола голову и застыла, скрученная так неизящно, что голливудский кинематограф подобный кадр не одобрил бы: там у них грация, легкость, там нужно правильно ногу под себя поджать и согнуть руку в локте. Голову набок и по возможности вздернуть подбородок, как на полотнах Возрождения.
У смерти был запах сырости, скрип полуоткрытой двери и маячащий свет керосиновый лампы. Подползающая смерть мерцала безразмерной и бесформенной жалостью умирающих к себе самим. Жалостью к себе тех, кто остались живы.
Сандрик впервые пожалеет себя, когда Миша, отец, уйдет из семьи, а потом – когда не станет Инги. В юности, когда он останется один, ему будет казаться, что луна смотрит на него глазами матери. Уже больной раком. Уже ускользающей. Что нет ничего более очевидного, чем этот полуоткрытый рот, распахнутые навстречу беде глаза и свет. Желтый, скачущий свет, который источала Инга, утекая в смерть из-под мятой простыни и затягивая за собой лакуну.
А пока, возвращаясь по вечерам домой, Миша мечтал о кресле-качалке. Так всем и рассказывал при любом удобном случае: во время застолий, кухонных посиделок, встреч с одноклассниками. Или когда сосед поднимался одолжить до получки. В те годы мечтать о кресле-качалке было чудачеством, мало кто решался проявлять любовь к греховному миру комфорта, растлевающему жесткое и натруженное до мозолей тело. И Миша, только и ждавший печального итога всемирного заговора и вынужденного переселения людей в пещеры, упивался этой маленькой прихотью, которую мог себе позволить: помечтать о чем-то столь прекрасном и в его случае финансово неподъемном, лишь бы всех удивить. Объявив о своей неизменной мечте в очередной раз, он обычно откидывался на спинку стула и горящими глазами оглядывал слушателей. Миша с наслаждением вбирал в себя их недоумение и прощение маленькой слабости человеку, готовому в любой момент начать добывать еду копьем, потому что «к этому все идет». Но, озвучив мечту, он ею пресыщался. Она серела, теряла тепло, как мертвеющее тело, пока он снова не вдыхал в нее жизнь на очередных посиделках. Миша так и жил – от озвучки до озвучки. Это помогало ему ждать великого, печального и уже неизбежного переселения народов обратно в пещеры.
Рассказывая о кресле-качалке, Миша будто отрывался от собственного тела и, как художник, отходящий на обзорное расстояние от своей картины, смотрел на себя и свою несбыточную мечту как бы со стороны, примеряясь с карандашом меж пальцев, упоенно щурясь. В эти минуты он подпитывался жалостью к самому себе, обреченному любить то, чего не имеет, и ждать того, что не случится. Самосострадание, постсоветская чума, обживалось в панельных квартирах, подминая под себя целые семьи.
Инга, прихватив Сандрика, регулярно ходила на районную АТС, чтобы оплатить городской телефон: месяц пустых разговоров, молчания в трубку и голосовой тоски, передаваемой не воздушнокапельным. Там в окошках сидели женщины с синими веками, алыми губами и лаком цвета ржавчины на ногтях. Они и заправляли медно-кабельными механизмами передачи инфекции: захотят, отключат тебя от очага болезни, захотят, вернут к связи. На АТС всегда пахло краской, сыростью, карболкой и агрессивным женским парфюмом. Тусклый свет падал мимо людей, а звуки носили канцелярно-фанерный характер.
Но в тот морозный предновогодний день все было иначе. К наглухо закрытой двери АТС стеклась бесформенная очередь. Из двери периодические выпады в толпу совершала широкая ладонь. Промышленный район, намертво заглушивший все свои индустриальные трубы, ссутулился и скис в ожидании заокеанской руки дающей и должного внимания к своей затравленности. Все хотели должного внимания. Тбилисцам было мало рассказывать о жалости к себе друг другу. Нужно было, чтобы их признали и пожалели. Чтобы о них говорили те, кому повезло гораздо больше.
– Представляете, вчера поднимаю трубку, чтобы набрать номер, а там дочь моя с парнем каким-то о сексе болтает! – Женщина в толпе на секунду вдавила голову в плечи, и заимствованное слово глухо зашипело, как аспирин в стакане воды. – И не с дому, а, видимо, от подруги. Вот уж телефонные линии пересеклись!
В те времена все начали постепенно понимать, что за пределами блочно-панельной аркадии есть не только «секс», но и другая жизнь. Что там по земле ступают богачи, не придуманные сценаристами мыльных опер, что у женщин там есть домработницы и даже оргазм (это потому, что климат другой, мягкий, уверяли себя наши). И что за все это им не обязательно покаяние. Осознание того, что прекрасный, беззаботный мир по ту сторону безбожия обязан здешним людям, снискавшим у судьбы чуть меньше удачи, пришло очень быстро, и все по эту сторону примерили на себя защитные комбинезоны жертв.
– Так, очередь соблюдайте! Назад, говорю! – Широкая ладонь, выглядывающая из толстого серого рукава куртки, обозначила границу толпы взвинченных женщин и перепуганных детей.
– Что за отношение к людям? Кошмар, кошмар! Второй час держат на холоде, как собак!
– На днях поставили елку, а он просыпается ночью, садится на кровати, бороду нервно чешет. Что, спрашиваю, случилось? Елка, отвечает, в углу на двух человечьих ногах притаилась, убери. Говорит мне такое, представляешь, и пальцем у виска крутит! Что, вскипаю я, дыру сверлишь? Нет, говорит, пулю вкручиваю.
– Говорят, в коробках можно доллары найти. Нас потому тут и держат.
– Как это?
– Коробки они там у себя открывают, смотрят, что внутри.
– Доллары? – Высокая женщина в черной затертой дубленке едва не опрокинулась на собеседниц, замкнув круг доверия. – Вот прямо в коробках?
– Ну да, между карандашами и шарфиками. У моей подруги мать в Америке, так она доллары оттуда каждый месяц присылает. Я слышала, у них там всё теперь чеками какими-то оплачивают, а бумажные деньги остались не у дел. Вот и сбывают в наши страны.
Не прошло и двух минут, как подозрительная толпа стала неистово ломиться в закрытую железную дверь АТС и угрожать ее выломать, если там, внутри, не перестанут вскрывать коробки. Разревелись дети, хватаясь за пальто матерей, потянули их домой. От поднявшейся суеты Инга потеряла место в очереди, и толпа вытолкнула ее на самый край огороженной территории. У Сандрика сводило челюсти от мороза, а под шапкой вспотели волосы. В горле пересохло, и язык натирал нёбо. Колючий свитер окольцевал шею, и поворачивать ее совсем не хотелось, поэтому Сандрик смотрел в землю, изучая узоры обледенелого асфальта.