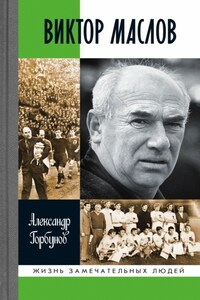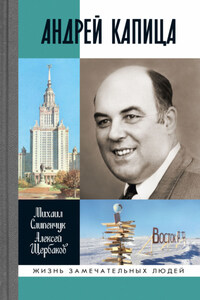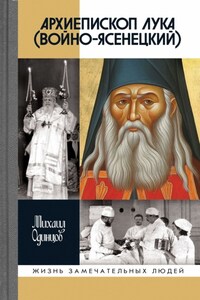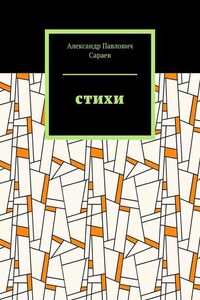Не каждому художнику под силу сделать себе имя и карьеру в трёх странах. Начать всё сначала в сорок лет – и повторить свой успех.
Давиду Бурлюку это удалось.
Россия, Япония, Америка, Украина. В этих странах его помнят и любят. Украина – родина Бурлюка; он родился в украинско-польской семье, и сегодня его вспоминают на родине всё чаще.
Фигура Бурлюка невероятно масштабна и интересна, а судьба его кардинально отличается от судеб его ближайших товарищей, друзей и сподвижников по русскому футуризму. Если жизнь Владимира Маяковского можно охарактеризовать как трагедию, то жизнь Давида Бурлюка, безусловно, в определённой мере драма, но драма со счастливым концом. Это драма человека, который был вынужден выбирать между признанием и славой, к которым он всячески стремился, – с одной стороны, и чисто физическим выживанием, самосохранением, определённым материальным благополучием и возможностью заниматься творчеством так, как он этого хотел, – с другой. Со всей очевидностью этот выбор встал перед ним в 1918 году, во время Гражданской войны, и он выбрал тогда самосохранение и свободу творчества. Оказавшись в 1920 году в Японии, он не вернулся обратно в Россию, как поступили его друзья и соратники, а уехал ещё дальше, в США, где начал жизнь фактически с чистого листа. Его российская слава и заслуги там ровным счётом ничего не значили.
В 1929 году Давид Бурлюк завершил свои «Фрагменты из воспоминаний футуриста», которые надеялся опубликовать в СССР. Этого не произошло, они были опубликованы в России лишь в 1994 году. В этих воспоминаниях есть множество фрагментов, характеризующих личность самого автора, но этот кажется определяющим:
«Если другие футуристы, особенно второй призыв, после революции и получили признание, то я лично, волею судеб попавший на другие материки нашей планеты, продолжая всежильно работать на пользу страны рабочих и крестьян, моей великой революционной родины, никакого признания у себя на родине так и не видал, а унёс в ушах своих нахальный смех генералов и толстосумов. При таких обстоятельствах нельзя человека обвинять в некоторой нервности. Мне 22 июля 1929 года исполнилось 47 лет. В каждом существе обитают различные инстинкты. Инстинкты продолжения рода, самосохранения чисто физического. Но я, подобно другим моим товарищам по влечению к искусству, всю жизнь, с ранних лет обуреваем был припадками инстинкта эстетического самосохранения. В некоторых творческих особях он проявляется необычайно бурно, вспомним Тёрнера с его тремя тысячами картин и девятнадцатью тысячами рисунков».
Вот этот «инстинкт эстетического самосохранения» был, пожалуй, главным в характере Давида Бурлюка, и все его поступки были так или иначе продиктованы этим инстинктом. «Инстинкт эстетического самосохранения» сослужил ему добрую службу, ведь мы помним и говорим о нём и сейчас. Хотя долгое время казалось, что эмиграция поставила крест на его карьере.
Судьба его друзей и соратников в конце 1910-х и начале 1920-х годов складывалась удачно. Тогда «левое» искусство заняло на непродолжительное время главенствующие позиции в только что родившейся стране. Однако время это быстро закончилось, и каждый из его ближайших друзей пошёл своей дорогой. Дальнейшая судьба Владимира Маяковского всем известна; жизнь Велимира Хлебникова оборвалась в том же возрасте, что и жизнь Маяковского, в 36 лет; Алексей Кручёных долгие годы прозябал в нищете, печатая свои книги мизерными тиражами за собственный счёт. Василий Каменский последние тринадцать лет жизни был почти полностью парализован и ушёл в своём творчестве совсем далеко от того, что писал в начале века. Были и гораздо более трагические судьбы. Один из «гилейцев», друг Бурлюка Бенедикт Лившиц, был в 1938 году расстрелян по бредовому обвинению в руководстве контрреволюционной группой ленинградских писателей, причём часть обвинения базировалась на придирках к его книге «Полутораглазый стрелец» – фактически поэме о футуризме и о Бурлюках. Другой друг Бурлюка, Сергей Спасский, был арестован в 1951 году и приговорён к десяти годам лагерей. Ряд владивостокских друзей и соратников Бурлюка были расстреляны по вымышленным обвинениям в шпионской деятельности по заданию японской разведки – Сергей Третьяков, Венедикт Март; Владимир Силлов расстрелян ещё в 1930 году по обвинению в шпионаже и контрреволюционной пропаганде… К счастью, со смертью Сталина этот ад закончился.
Давид Бурлюк находился вне всего этого и мог продолжать работать так, как он хотел, не опасаясь за свою жизнь и свободу. Он мог работать в любом стиле – футуризма, экспрессионизма – ему никто ничего не диктовал. Мог называть себя «радиофутуристом», «американским Ван-Гогом», примитивистом – в СССР такое было немыслимо. Однако обратной стороной этого стало почти полное замалчивание его имени на родине. В Советском Союзе не было опубликовано ни одного его стихотворения, а картины его хранились исключительно в музейных запасниках. В борьбе за признание на родине Бурлюк провёл много лет – но тщетно. Разочарование его таким положением постепенно нарастало – ведь в Америке и Европе, начиная с 1940-х, его имя звучало всё громче, и картины пользовались большим спросом. Вместе с этим менялась и риторика – от полностью просоветской в период 1920—1940-х она становилась всё более и более критической по отношению к культурной политике советских властей. Именно культурной – во всём остальном он советский курс поддерживал. Но всё, чего он смог добиться – двух приглашений в Советский Союз и редких упоминаний в печати в связи с дружбой с Маяковским.
Сильнейшее стремление Бурлюка к признанию имело и другую сторону. Оно проявлялось зачастую в неумеренном бахвальстве, безудержной саморекламе, а главное – в конформизме по отношению к советской власти, той самой власти, которая убила двух его братьев, Владимира и Николая. И если обстоятельства гибели Владимира до сих пор остаются загадкой – скорее всего, он погиб в 1919-м, во время Гражданской войны, воюя в Вооружённых силах Юга России, то о том, что Николая ни за что расстреляли большевики, Давид знал совершенно точно. И – никогда не упоминал этого публично, никогда не ставил в упрёк советской власти, чьей благосклонности он так долго и безуспешно добивался. Собственные безопасность и свободу творчества он ценил выше сопряжённой с риском справедливости. Безграничная любовь к искусству и желание остаться в его истории перевесили всё.
Для того чтобы реализовать «инстинкт эстетического самосохранения», нужны были три составляющие. Нужно было жить долго, работать много и, конечно, громко заявлять о себе. Всё это у Давида Бурлюка было. Кроме того, ему был присущ ряд удивительных привычек, «пунктиков», которые он постоянно подчёркивал. Например, он постоянно подсчитывал, сколько лет он прожил, сколько дней, сколько минут, сколько ударов совершило его сердце. Основным ориентиром в этом был для него Лев Толстой. А ещё – соревновался с наиболее плодовитыми художниками в количестве написанных картин, чаще всего упоминая в этой связи англичанина Уильяма Тёрнера. Сам Бурлюк утверждал, что написал за свою жизнь около двадцати тысяч работ. Вот фрагмент одного из его многочисленных писем в Тамбов, коллекционеру Николаю Никифорову, которого Бурлюк называл своим «духовным сыном»: