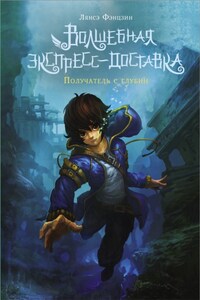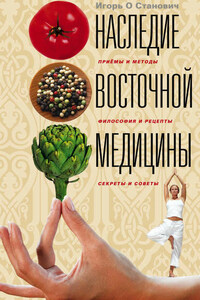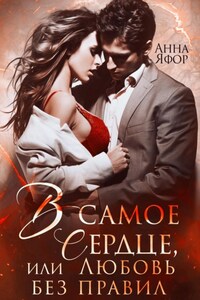Приходишь впотьмах, отмыкаешь калитку и во дворе чуть не налетаешь на дядю Юру, ночного сторожа. И говоришь ему:
– Ой, здравствуйте…
А потом добавляешь:
– И до свидания!
Он переоделся уже в свой пуховик и телогрейку на вешалке оставил, и большая сумка, гляжу, при нём – её-то я и задела на ходу рукой, с размаха, так что руке больно стало. Он в этой сумке термос носит, а как-то в моё дежурство принёс четырёх слепых щенков. И стал рассказывать, что пошёл мусор выносить в контейнер во дворе, а там – пожалуйста!
«Как так подгадали они, когда я с ведром выйду?» – спрашивал он у меня про каких-то неизвестных нам людей и всё удивлялся, как удачно получилось, что он решил убраться дома и мусор вынести. А про щенков говорил, что на ловца и зверь бежит.
Хотя они и сейчас ещё не могут бегать. Их до сих пор кормит Хильда в клетке вместе со своими. Говорят, могла бы не принять, но она их приняла. Теперь у неё восемь детей – четверо пушистых, разноцветных и четверо чёрных, гладких.
Я сейчас первым делом к ним побегу. Они всегда голодные, им не хватает молока. И они наверняка уже не спят. Утро же пришло! Скоро светло будет. И дядя Юра собрался уже домой – это мне работать, мой день в семь тридцать начинается.
Что ещё сказать друг другу в это время, как не «здравствуйте – и до свидания»? Но почему-то тебе от этих слов становится смешно. И дядя Юра тоже улыбается – я это знаю даже в темноте. Я представляю, как морщится у него лицо, и слышу его улыбку в голосе, когда он говорит:
– Я там написал в судовом журнале… – хотя у нас вовсе не судовой журнал – разве мы все плывём куда-нибудь на корабле?
Яни́на, хозяйка, поправила бы его: «В журнале служебных наблюдений, – и спросила: – Сколько ещё вам напоминать?» Но её здесь нет, а я только киваю дяде Юре: «Ладно, почитаю».
Но он всё не уходит – видно, сомневается, что у меня хватит времени читать. Он останавливается на середине двора, под фонарём, и начинает рассказывать:
– Я там записал, что ночь была тихой, звёздной и безлунной, а это значит, что никто в приюте не выл на белую холодную луну. А без луны они не воют, если всё в порядке…
А сам и вправду широко улыбается. Теперь я вижу, как на его железные зубы от фонаря падает свет и во рту у него вспыхивают искорки.
– Стихи я написал про зимнюю безветренную ночь, – смущаясь, говорит он. – Ты погляди. И мамка, если будет время, пусть почитает…
Я снова машинально киваю, а сама думаю: «Разве так можно, чтобы в журнале наблюдений – и стихи?»
А дядя Юра стоит и пытается их вспомнить. Он поводит рукой в сторону вольеров и начинает декламировать:
– «Какая ночь! В такие ночи дым столбом стоит из труб, уходит прямо в небо…» Или нет, у меня это в середине. А-а, вот в начале там: «Все наши подобра́лись…» Ну да, вот так! Я там написал: «Все наши подобрались – просто загляденье. Как иначе? В приюте для собак – здоровый коллектив!»
И тут же перебивает сам себя:
– Арчика я не беру во внимание, аристократа нашего. Его как сдали к нам погостить, так и уйдёт, хвостом напоследок не помашет. Я ему каждую ночь: «Ты чего плачешь? Возьмут тебя обратно, возьмут! Столько уплачено за тебя – да чтоб не взяли?» И хоть бы что понимал… Да ещё на второй территории, около забора, скажу тебе, есть у нас слабое звено. Одна там колотовка шебутная всю картину портит.
Я не понимаю:
– Кто-кто?
– Ну, скандалистка эта чёрная ваша, дебоширка… Кто только привёл её…
И я догадываюсь, что это он говорит про нашу дикую Тучку.
– Вот уж кого не могу понять, – жалуется он. – Я к ней на той неделе с добром – с косточками, значит, в миске нёс. Нарочно из кастрюли отлил, в бульоне были косточки. «Гляди-ка, – говорю, – что здесь у меня». А она ни с того ни сего как завизжит, да и кинулась с визгом мне под ноги. Я сел с размаху на цемент, думал, у меня копчик раскололся. А спереди весь этим варевом облился… Так больше я к ней не подхожу. «Скули не скули, – говорю ей, – а я тебя не слышу. Я иностранец, – говорю, – не понимаю тебя. Или ты одна среди всех наших иностранка…»