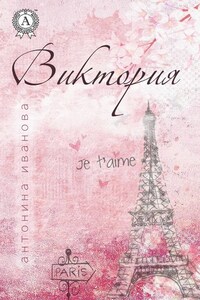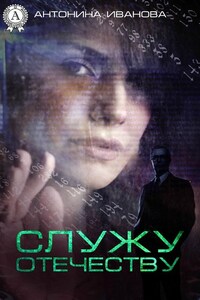В детский дом меня привезла госпожа Гусева, инспектор опекунского совета. Был выходной день. Коридоры были пусты. Мы пошли искать директора детдома. Остановились перед дверью, на которой было написано:
Галкина Екатерина Васильевна.
– Нам сюда, – посмотрев на меня, как на обузу, тётя Гусева постучала в дверь.
– Директора нет. Приходите завтра, – недовольно проговорила тётенька с ярко накрашенными губами, появившаяся из дверей, напротив.
– Нам надо сегодня, – возразила инспектор опекунского совета.
– Это почему?..
– Потому что мы из другого города.
– И что…
– Нас должен принять дежурный воспитатель.
– Грамотные…
Госпожа Гусева тяжело вздохнула.
– Борисовна, прими дитё. Чего допрос устраиваешь… Не слышишь, люди приехали издалека, – проговорила толстая бабушка с ведром.
– А ты, Симоновна, что… директор…
– Директор. Директор по швабрам и тряпкам. Однако сиротеню прими.
– А откуда тебе известно, что она сирота?..
– Потому что… директор, – усмехнулась Симоновна.
Недовольно вздохнув, Борисовна сказала:
– Давайте документы, а то этот директор по тряпкам всё равно не отстанет. Она здесь главнее всех главных.
Проверив все опекунские бумаги, тётенька с красными губами спросила:
– Так, сколько же тебе годков?..
Я настороженно посмотрела на инспектора Гусеву.
– Шесть, – ответила за меня опекунша.
Покачав головой, детдомовская служащая безразлично сказала:
– Теперь это твой дом. Иди за Симоновной, она тебя отведет…
Добрая бабушка, которая была директором по швабрам и тряпкам ласково сказала:
– Пойдём детка, сейчас покормлю. Небось проголодалась.
От неизвестности мне стало тоскливо. Я оглянулась, чтобы напоследок поймать сочувственный взгляд госпожи Гусевой. Но той уже не было.
– Господи, и зачем вас сиротинушек на белый свет выпускают. Чтобы потом маялись, не зная радости жизни, – приговаривала бабушка, идя впереди и тяжело шаркая ногами. Усадив меня за стол, она поставила передо мной тарелку с супом, продолжая причитать: – Хорошенькая, а в глазах… что и у всех, страдание. Сколько работаю в этом сиротнике, а смотреть в ваши глаза боюсь. Ешь, сиротенька, ешь. Кормить-то здесь кормят, а любви… – махнув рукой, бабушка направилась опять на кухню. Вернулась она с кусочком белого хлеба и пластмассовой чашкой компота. Ешь, пей всегда здесь, с собой не носи, всё равно отнимут.
Пока я ела, милосердная старушка, посматривая на меня, тяжело вздыхала.
Старушка – это Полина Симоновна, баба Сима, – так по-домашнему прозывают ее детдомовцы.
Баба Сима была самой душевной из всего детдомовского персонала. Она с пониманием относилась к детдомовцам, сердечно сопереживая малым и сирым. К ней жались малыши после страшных ночных кошмаров; середнячки жаловались на своих обидчиков; а старшие ребята считали её «своей». Они знали, что баба Сима жаловаться ни к кому не пойдёт, сама поученье проведёт. Если уж задаст словесную трёпку, это будет куда чувствительнее, чем наставления или даже рукоприкладство воспитателей. После её воздыхательных уроков правосудия у виноватого уж точно засосёт стыдливый «червячок».
Убрав со стола посуду и собрав крошки в кулак, которые затем ссыпала в пакетик, она заботливо произнесла:
– Идём, покажу твой угол, а потом пичужек на дворе покормлю.
Боясь остаться одной и не зная, что будет со мной, я старалась не отставать от бабы Симы. Глядя на ее согнутую спину и тяжелую поступь, я вдруг подумала, что эта бабушка может скоро умереть… А что же тогда будет со мной… Кто жалеть меня будет… Я всхлипнула, слезы потекли по щекам.
Обернувшись, добрая баба Сима понимающе проговорила:
– Да уж, детонька… Поплакать придется. Но ты не отчаивайся. Я тебе вот что скажу: здесь сплошная «апдитация». Без нее никак нельзя. Где промолчи, где повздыхай, а где и поплачь. Приходится приноравливаться. Ну раз так вышло… раз сиротенью оказалась.
Баба Сима всех детдомовцев называла сиротенью, а детский дом – сиротником. Она печально качала головой, когда этот казенный дом называли детским. «Какой же он детский… когда у этних детёв уже с малолетства в глазах страх и потёмки. Взрослые такое не пережили как эти сиротени. И ничего детского их здесь не ждёт».
Придя в комнату, где уже все спали, Баба Сима подвела меня к кровати, которая стояла в углу. Поправив подушку, она тихо проговорила, будто делилась своей тайной:
– Завтра не моя смена. Я служу сутки через двое. Но бывает, выхожу и через день. Дома особых забот нет, да и, кроме вас сиротень, у меня никого нет. А ноги полопушить и одного дня хватает. Замучили треклятые суставы. Давно годки зовут на отдых, да душа не позволяет. Душа не ноги, её в лопухи не закутаешь. За вас, сиротень, болит. Дома ваши глаза из-за каждого уголочка смотрят на меня, а здесь хоть нет-нет да кому-нибудь кусочек суну. Вот через денек приду на службу, к тебе загляну. А сейчас залезай под одеяло и усни.
Забившись в угол кровати, я осмотрела комнату. Присмотревшись, я насчитала пять кроватей. Шестая была моя. Спать в незнакомом доме не хотелось. И я стала вспоминать, как стала сиротенью.
Меня несколько раз хотели отправить в детский дом. От государственных тётенек и дяденек меня спасала тётя Люда, мамина подруга. Она всегда знала, когда опекунские работники совершат «набег» в нашу неблагополучную семью. Так госпожа Гусева приходила день в день, когда тётя Люда получала зарплату, а мама принимала «успокоительную грамульку».
Вдохнув «лекарственный» запах, исходивший из нашей двери, тётя опекунша прямиком направлялась к маминой подруге. В дни маминого болезненного состояния тётя Люда забирала меня к себе. Выслушав назидательные речи государственной чиновницы о лишении мамы родительских прав, тётя Люда клятвенно убеждала ту в том, что её подруга – хорошая мать. Мол, девочка всегда находится в аккуратизме, – и вертела меня пред опекунским работником, показывая и чистое платье, и два банта на голове. А что мама сегодня «не в форме» – исключение из её человеческого образа. Прихлопнув карман с всунутой тётей Людой денежкой и пригрозив в следующий раз отправить меня в детский дом, госпожа Гусева удалялась. А мамина подруга «в сердцах» говорила: «Шельма чует, когда поживиться…» А на следующее утро она «промывала мозги» маме. Так тётя Люда называла поучения, после которых мама заверяла её «взять себя в руки».
Свое «нехорошее» состояние мама объясняла тем, что ей тоскливо без моего папы. Я тоже скучала по папе, хотя никогда его не видела. Когда однажды я спросила, где мой папа, мама грустно улыбнулась и сказала: «На Луне». И показала фотографию, на которой молодой военный, обнимая маму за плечи, смотрел на Луну. На обороте фотографии было написано: «Мы вместе полетим на Луну». Мама говорила, когда она принимает грамульку, то ей кажется, что папа скоро вернется, и они втроем полетят на Луну.