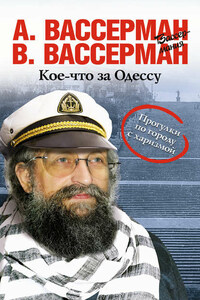С самого раннего детства я ощущала себя чудаковатой, непохожей на других. И это ощущение подпитывалось отзывами окружающих детей и взрослых. Как только меня не называли! «Белая ворона» и «чудо в перьях» – самые безобидные из моих прозвищ. Я не пыталась исправиться, чтобы соответствовать общему знаменателю, и не особенно-то комплексовала по поводу своей несуразности. Ну не как все, ну и что!
Уже взрослой я прочитала статью на тему психологии про детей «индиго» и поняла – это про меня. После статьи появилось какое-то двойственное чувство, вроде как успокоило то, что не одна я с приветом, а с другой стороны, даже немного задело, что, оказывается, встречаются в природе подобные типажи, и я не такая уж уникальная личность. Надо сказать, все точно совпадало с моим характером в детстве. Я росла маленькой бунтаркой, крайне любопытной, очень упрямой, скрытной и неусидчивой. Когда я еще не умела читать, мама, чтобы разучить со мной стишки, садилась на стул посреди комнаты, вслух читала, а я бегала вокруг нее и повторяла. Минута простоя для меня казалась невыносимой. Я не капризничала и не озорничала. Все мои поступки подстегивались исключительно любопытством и желанием испытать свои силы: смогу – не смогу.
С детсадовского возраста меня посещали философские умозаключения. Я смотрела, как прыгают и смеются дети, и думала с осуждением: «Какие же они глупые, веселятся, а ведь жизнь так коротка». Для своих лет я была слишком серьезной и рассудительной. Воспитатели часто привлекали меня в помощники, и я, как надзирательница, следила, чтобы дети во время тихого часа не разговаривали и лежали с закрытыми глазами. Пословицы и поговорки я перевирала по-своему, придавая им новый смысл в своем понимании. Мои первые афоризмы: «утро вечера утренее», «век живи – век лечись».
Мне легко давались предметы по точным наукам. Я даже помогала решать задачи по физике и математике своим друзьям старше меня на один-два класса. Мне нравилось ковыряться в различных механизмах, начиная с будильников и заканчивая двигателями. Став постарше, малость остепенившись, я стала много читать, читала взахлеб при любой возможности. В гостях, первым делом, спрашивала разрешения порыться в книжном шкафу. В одном из школьных сочинений, за которое получила оценку «отлично», я процитировала слова Базарова «искусство делать деньги или нет более геморроя». Мама прочитала мое творение, усмехнулась и спросила, знаю ли я, что такое геморрой? «Нет, – говорю, – не знаю, но думаю что-то революционное». Тайком от всех сочиняла стихи и вела дневник. Мама не одобряла мою наклонность к чтению, считала баловством, но не препятствовала.
Как все настоящие «индиго», я страдала обостренным чувством самоуважения и справедливости. В первом классе произошел такой случай. В диктанте я допустила ошибку, написала «ку-ре-ца». Учительница прочитала мою работу перед классом, и все дружно посмеялись, а потом еще и дразнились: «Эй, ты, куреца!» Я пришла домой и сказала маме: «Ты можешь меня убить, но я в эту школу больше не пойду». И моя строгая мама, которую я боялась как огня, поняла, что в этот раз ей меня не сломить, на следующий же день забрала документы и отнесла в другую школу. В новой школе ко мне отнеслись более лояльно и одноклассники, и учителя. Если вдруг я пролезала под партами через весь ряд, чтобы взять у кого-нибудь карандаш, то наша классная руководительница Галина Федоровна, которую мы между собой любовно называли Галифе, говорила: «Дети, сидите тихо! Пожалуйста, не наступите на Кондратьеву!»
Я не играла в куклы, больше водилась с мальчишками. Могла постоять за себя и за других, кидалась на обидчика как кошка, не взирая на перевес сил противника. Но сама первой никогда не задиралась. Я была дворовой атаманшей, и все малявки бежали ко мне жаловаться и просить защиты. В детстве мне постоянно хотелось подпрыгнуть, куда-нибудь залезть, пробежаться. Энергия во мне бурлила и искала выхода. Казалось, руки как крылья, стоит взмахнуть, и я полечу. Однажды какая-то необъяснимая и непреодолимая сила заставила меня забраться на высоченную акацию. Залезть-то залезла, а спуститься не могу. Уже вечер, пора домой, помочь некому. Делать нечего, обняла ствол руками и ногами, да и съехала вниз. Дерево старое было, кора толстая, грубая, в общем, я неделю ходила, раскорячив ноги. Страха не было совершенно. Все мои бесчисленные cсадины и синяки ничему меня не учили, боль быстро забывалась, и я опять, как одержимая, принималась за старое. В травматологическом пункте меня уже встречали как знакомую: «Опять Кондратьева! Что на этот раз?» Во время перевязки пожилой доктор Владимир Иванович грозно поглядывал через толстые линзы очков и предупреждал: «Будешь пищать – усы зеленкой нарисую».
Единственное, чего я боялась, так это маминого наказания. Воспитывала она меня строго, даже, можно сказать, сурово. Частенько поколачивала. Не помню, чтобы она хоть раз обняла или сказала ласковое слово. Почему так сложилось? Для меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Может быть, одной из причин был неудачный брак с моим отцом. Волей-неволей я постоянно напоминала маме о нем. Мы никогда не выясняли отношений и не говорили на эту тему. Я уверена, что у нее и не было чувства вины передо мной. И хотя я всегда старалась для самоуспокоения найти маме какое-то оправдание, тлеющая обида где-то в глубине души так и осталась.