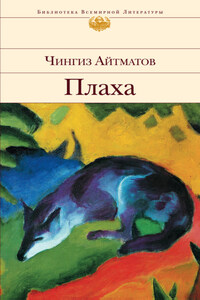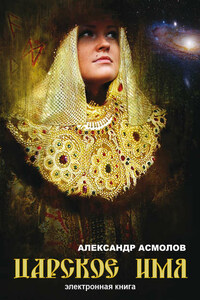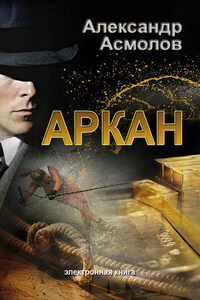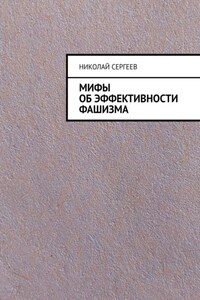[1]
Это скромное повествование не притязает на сюжетную стройность или развитие положений и характеров; оно лишь небрежный набросок, который почти дословно повторяет рассказ скромнейшего из действующих в нем лиц. Я не стану вдаваться в детали, занимательные лишь благодаря своей исключительности и достоверности, но, сколь возможно кратко, поведаю, как, посетив разрушенную башню, венчающую голый утес над проливом, который разделяет Уэльс[2] и Ирландию, я с удивлением обнаружила, что при всей грубости внешнего облика, выдававшей долгую борьбу со стихиями, внутренним убранством она больше походит на летний павильон, будучи слишком мала, чтобы именоваться иначе. В ней имелся нижний этаж, который служил прихожей, и верхнее жилье, куда вели ступени, проделанные в толще стены. Эта комната была устлана коврами и обставлена изящной мебелью; а главное, над каминной полкой (камин, очевидно, соорудили для защиты помещения от сырости, когда оно приобрело облик, столь далекий от его первоначального назначения) висел, привлекая внимание и возбуждая любопытство, безыскусно написанный акварельными красками портрет; из всего убранства комнаты он наименее соответствовал грубости постройки, уединенности ее расположения и запустению окружающей местности. Акварель изображала прекрасную девушку в самом расцвете юности; на ней было простое платье, отвечавшее нынешней моде (читателю следует помнить, что я пишу в начале восемнадцатого столетия); невинность и ум вкупе с сердечной чистотой и врожденной веселостью придавали ее лицу необычайную прелесть. Она читала один из тех романов in-folio, которые долгое время служили отрадой восторженным и юным; у ее ног лежала мандолина; рядом на большом зеркале сидел попугай; расположение мебели и драпировок свидетельствовало о роскоши жилища, а платье девушки – о домашнем уединении, но вместе с тем выглядело непринужденным и нарядным, словно она хотела кому-то понравиться[3]. Под портретом золотыми буквами было выведено: «Девушка-невидимка».
Блуждая по местности почти необитаемой, сбившись с пути, застигнутая ливнем, я набрела на эту мрачную обитель, которая как будто сотрясалась на ветру и являла собой настоящий символ запустения. Я тоскливо осматривалась и мысленно проклинала мою звезду, что привела меня к развалинам, неспособным защитить от усиливавшейся бури, когда заметила, как в некоем подобии бойницы появилась и столь же внезапно исчезла голова старушки; минуту спустя женский голос пригласил меня войти, и, пробравшись сквозь густые заросли ежевики, скрывавшие дверь, которой я прежде не заметила (настолько искусно природа была здесь использована для маскировки), я встретила приятную пожилую даму, стоявшую на пороге и приглашавшую меня найти убежище внутри.
– Я только что поднялась из нашей хижины неподалеку отсюда, – сказала она, – присмотреть за добром, как и во всякий день, но тут зарядил дождь; почему бы и вам не зайти да не переждать, пока он закончится?
Я собиралась было заметить, что хижина неподалеку отсюда вернее защитила бы от дождевых капель, нежели развалины башни, и спросить мою любезную хозяйку, не являются ли голуби или вороны тем самым «добром», присмотреть за которым она поднялась, но тут мое внимание привлекли циновки на полу и ковер на лестнице. Еще больше я удивилась, увидев комнату наверху; и в довершение всего портрет с диковинной подписью, именовавшей невидимкой ту, кого художник изобразил вполне зримой, пробудил во мне живейшее любопытство; следствием этого, а также моей безмерной почтительности к пожилой женщине и ее врожденной словоохотливости, стало путаное повествование, которое дополнялось моим воображением и исправлялось дальнейшими розысками до тех пор, пока не приобрело следующий вид.
Несколько лет назад, сентябрьским днем, довольно погожим, хотя по многим приметам вечером следовало ожидать бури, в прибрежный городок, милях в десяти от этого места, прибыл некий джентльмен; он изъявил желание нанять лодку, чтобы переправиться в город ***, расположенный милях в пятнадцати дальше по побережью. Небо грозило ненастьем, и никто из рыбаков не отваживался на столь опасное предприятие, пока наконец двое – отец многочисленного семейства, польстившийся на богатое вознаграждение, которое посулил незнакомец, и сын моей хозяйки, ведомый юношеской отвагой, – не согласились пуститься в плаванье. Дул благоприятный ветер, и они надеялись проделать основную часть пути до наступления сумерек и войти в гавань прежде, чем поднимется буря. Они отчалили под ободрительные возгласы рыбаков; что же до незнакомца, то глубокий траур, в который он был облачен, и вполовину не был так черен, как меланхолия, окутывавшая его душу. Казалось, он ни разу в жизни не улыбался; словно бы какая-то невыразимая дума, мрачнее ночи и горше смерти, навечно угнездилась в его груди; он не упомянул своего имени, но один из сельчан признал в нем Генри Вернона, сына баронета, владевшего усадьбой в трех милях от города, в который он направлялся. Усадьба стояла почти заброшенной; но Генри в романтическом порыве посетил ее года три назад, и сэр Питер прожил там пару месяцев минувшей весной.
Лодка двигалась вперед медленнее, чем ожидалось: едва они вышли в море, ветер ослабел, и, чтобы обогнуть мыс, отделявший их от цели, морякам пришлось наряду с парусом прибегнуть к помощи весел. Они были еще очень далеко, когда переменившийся ветер начал набирать силу, задувая неровными, но ожесточенными порывами. Наступила ночь, черная, как копоть, и ревущие волны вздымались и разбивались с чудовищной яростью, грозя поглотить суденышко, дерзнувшее противостать их буйству. Пришлось спустить парус и налечь на весла; одному из людей было поручено вычерпывать воду, а сам Вернон взялся за весло и принялся грести с отчаянной силой, не уступая в этом опытнейшему лодочнику. До приближения бури мореходы то и дело переговаривались между собой; теперь все смолкли, и лишь порой раздавались краткие приказания. Один думал о жене и детях и про себя клял прихоть незнакомца, последствия которой угрожали не только его жизни, но и благополучию его близких; другой боялся меньше, поскольку был юн и отважен; но он усердно выполнял свою работу, и разговаривать ему было некогда; Вернон же, горько сожалея о безрассудстве, из-за которого другим людям пришлось разделить с ним опасность, каковая была бы не столь значительна, если бы касалась его одного, теперь пытался ободрить спутников возгласами, исполненными воодушевления и отваги, и еще сильнее налегал на весло. Лишь человек, вычерпывавший воду, казалось, не был всецело поглощен своим занятием: он то и дело внимательно осматривался по сторонам, как будто силился разглядеть какой-то предмет в бурной пустыне моря. Но там было пусто, виднелись лишь гребни высоких волн, да вдалеке над линией горизонта поднимались тучи, предвещавшие еще большее буйство ветра. Наконец он воскликнул: