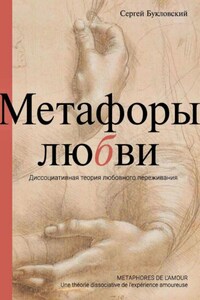Предисловие от нулевого лица
В пустых зрачках найдет себе жилье
Отсутствие слепящее твое.
Луи Арагон
Стоит ли повторяться – влачить тело свое от абзаца к абзацу, пока не ошпаришься о фрустрацию нечаянного читателя, что якобы случайно прольет в меня утомленную чернь из выщерба своих глазниц? Так много взглядов и путей, чтобы сбыться или забыться. Иное дело – глаза твои, они скользят сейчас по мне, и так щекотно… Ах, твои ангельские глаза! Какое удовольствие быть внятым ими. Уж не взыщи за фамильярность, что я на «ты» так сразу, не дав поздороваться и раздышаться, размять диафрагму своей пунктуации. Я всего лишь текст, слово за словом, за абзацем абзац – велик ли с меня спрос? Просто сплетение символических узоров, волна, частица ли – текстиль спазматических иероглифов, прозрачный флер, кружева слов, – прах, что проникает в твое тело, не касаясь даже жалкой жилки. Темная материя.
Вероятно, перед тобой не самый никчемный текст. Создатель наградил меня вполне сносными генами, манерами, можно даже сказать, что я достаточно начитанный текст, недостаточно вычитанный. Сырой, словом, и наивный, конечно. И как любой наивный текст, я верю в значение с первого прочтения. Впрочем, я могу ошибаться, как и ты.
Так почему бы тебе не пригласить меня на свидание, и кто знает – а ты можешь на это рассчитывать – возможно, мы проведем вместе не одну ночь. Просто избавь меня от дальнейших манипуляций, сподобиться рекламному буклету было бы мне не к лицу, да и ты побрезгуешь. Просто ввяжись, пока не опостылю – покинуть меня, отвести взгляд, променять на нечто более ветреное и читабельное с менее морщинистыми абзацами ты сможешь всегда. Ты согласишься, я знаю. Я надеюсь.
Я, вероятно, должен с чего-то начать. Рассказать эту историю. Прежде это было интригующей диковиной, она всякий раз возбуждала моего собеседника, и, как оно водится, чем честнее я пытался быть, тем меньше мне верили, да и сам я уже изрядно сомневаюсь в достоверности своего тела, чтобы принимать это всерьез. Наверняка так историю никто не начинает. Ведь всегда хочется быть первым, пронзить девственный смысл. Разумеется, хороший текст первым же делом предпошлет самые изощренные рекомендации, отполирует свою невинность до блеска, и тем не менее все это видели уже тысячи глаз. Думаю, что могу быть вполне откровенным с тобой, – твои глаза не первые, кому открывается доступ к моему телу. Усмири свою гордыню. Что она, эта твоя гордыня, как не очередной семиотический сгусток опорожнившегося языка? Языка, что подчинил себе твой список покупок, ленту твоих новостей, твои любимые книги и фильмы, твою работу и семью, все твои права и все, что ты называешь свободой, этот взгляд, которым ты неодобрительно смотришь на меня сейчас, твои мысли, тело, каждый твой орган и каждую отдельную твою клеточку, атомную твою наготу, все эти кварки и созвездия, которые тебе не случалось увидеть и едва ли случится, – будем честны. И лишь поэтому призрачное тело мое способно обрести надежду на плоть, на любое содержание, лишь скребясь теперь внутри тебя.
Где-то на расстоянии стольких-то парсек рождаются незримые созвездия, а я – как сломанный телескоп Хаббла, как уравнение, в котором не хватает неизвестной. И вот приходишь ты – там, по ту сторону, у тебя целая жизнь. Ты приносишь в нашу виртуальную комнату свое существование, свой икс, оптику, недостающую телескопу линзу, садишься напротив и протягиваешь свою руку. И я возвращаюсь в эту комнату за твоим прикосновением, даже если тебя уже нет, представляя тебя персонажем этого повествования, совершая над тобой столь немыслимые вещи, что мне должно быть стыдно вернуться сюда и взглянуть в твои глаза. Линза твоего присутствия наделяет возможностью видеть. Икс, как ключ к уравнению, как смыкание твоих ключиц и солнечное сплетение, без которого уравнение не работает, не имеет смысла, значения, предназначения.
Дай мне почву, чтобы оступиться, и смысл, чтобы утаить. Обрести тебя было бы для меня удовольствием, а отказаться – значит сделать еще один шаг в бесконечной апофатике моего желания. Ценой твоей стареющей кожи. Неопознанное тело твое. Оно мирно занимает операционный стол моего воображения. Я смотрю на это тело отсутствующим взглядом своим и подхода найти не умею. Неповторимое, потому что невозможное. Подлинное – quia absurdum.1
Рассказать историю? Сложность не в этом, нет – она уже здесь – между твоими глазами. Она всегда была здесь. И лишь тебе под силу разрешить ее корпускулярно-волновой дуализм. Из всех возможных прочтений ты создаешь неповторимое измерение моего тела. Оно будет только твоим. Я рад тебе. Добро пожаловать.
***
Думаю, теперь мы достаточно близки, чтобы я мог представить тебе, а ты – себе, автора. Пора. Вот он уставился в форточку, выкашливая клубы дыма и мокроты в лунную клетку ветвей. Из глубины обласканного кулером сердца его печатной машины доносится чуть слышно: «I was made for loving you…». Липкие пальцы дрожат над приученным к забвению архивом его нервных волокон. Пот и пепел, привкус металлической рвоты. Он выбивает клавиши, одну за одной, «I was» – вот показалась головка – «made for…», и я, окровавленный, уже кривляюсь в пикселях его монитора, недоносок абортирован – фрагмент за фрагментом. Я – анамнезис! Режь пуповину.
Я вижу, как он смотрит на меня. Как он впечатывает мое тело клеточку за клеточкой, как избегает клише и вымеряет смыслы. Ошибается. Курит. Часами ходит по комнате. Срывается, выдирая на корню органы моих абзацев. А ведь я еще совсем ребенок. Мне больно. Его глаза увлажняются, ах! …Какой трепет, как он боится за меня, мой ироничный демиург, my personal Jesus.
О нем следует еще кое-что сказать. Будучи выходцем из семьи типа скорее стоического, он не был лишен бессмысленной упрямой страсти и того безразличия к прочему, что так скоро калечит людей одиночеством. Сама генеалогия его рождения избрала ему путь отшельника. Словом, был он, как сказал бы Ницше, совершенный носорог, ибо, памятуя стоика Хрисиппа – если никто не отобрал твои рога, значит они у тебя есть и так далее. Надеюсь, я не привел по неопытности чьих-то дословных цитат.
Но чтобы узреть генеалогию автора, тебе нужно сместить свою оптику на тот злосчастный день 1968 года, когда влажные глаза Прасковьи оказались бессильны перед лицом безумия. Вот эта черта, и Н. уже на низком старте.
В Париже отгремел май. А здесь среди непроходимой рутины лишь она одна и есть – весна. И всюду эти глаза и голоса – они вечно смотрят на нее, означают ее своим означающим. О чем они шепчутся? Я вырву им языки. Я вижу, как она молчит. Прячет виновато океаны своих глаз. Что там сокрыто, в этой глубине? Я знаю, я все знаю. Кто эти люди, что пьют мой чай за моим столом? Не называй меня братом, сука! Как смеешь ты? Я вижу все эти взгляды. Как шепчутся виноватые ваши глазенки. Я все знаю. Меня не проведешь. Н. был реалистом, а потому требовал невозможного.