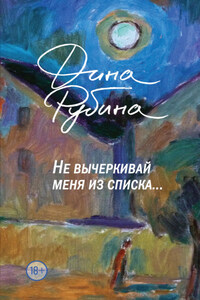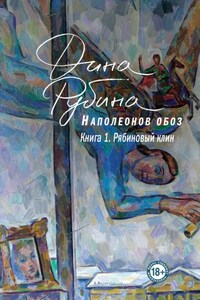– Жорка! Жо-о-орка! Ты где опять затырился, засранец! Вот погоди, найду, будешь уши свои оборванные как грыбы собирать. Вот найду, ох, найду-у-у!
Не найдёт. Она никогда его не находит. Поорёт и захлопнется…
Жорка очень зримо представляет себе, как Тамара захлопывается: лязгают зубы, губы защёлкиваются на замочек, медленно, на шарнирах опускается крышка черепа, который проворачивается и завинчивается, для надёжности, на костяной резьбе позвонков. В ушах Тамары – замочные скважины, в каждой крякает ключ. И вот стоит она, закрытая шкатулка, стоит и стоит себе, никому не надоедает, не орёт, не угрожает отослать его в Солёное Займище – «свиней с Матвеичем пасти». Стоит и стоит, пока он не отопрёт её и не запустит в дело…
В который раз ему приходит на ум, что в человеческой голове можно бы устроить парочку нехилых тайников. Он и сам лежит сейчас в тайнике, в одном из своих укрытий, разбросанных по двору. Он второе лето уже тайник обустраивает. Это пещерка в поленнице дров, сложенных под навесом у самого забора. Между поленницей и дощатым забором есть зазор для лучшей просушки древесины. Проникнуть туда нормальному человеку немыслимо, но Жорка, тощенький, плоский, как шпрота, втискивается бочком. Осторожно вытягивает несколько поленьев, расставляя по бокам упоры – вертикальные сваи, – чтобы не завалило его тайную пещерку… Забирается внутрь и проползает к продольной щели меж двумя чешуйчатыми полешками.
Удобная позиция: перед ним – весь огромный двор. Вон за спиной встревоженной Тамары ступает с крыльца соседка с полным тазом выстиранного белья. Видать, опять поругалась с Шестым, обычно тот сам развешивает стирку – свои кальсоны, необъятные панталоны жены. Ясно, поругались: высокий восточный голос Шестого из окна их кухни:
– Я вас очччень уважаю, Катерина Федосеевна, но я вас посажу!
– Ой, напугал, посадит! – звонко кричит та, мощно протряхивая на обеих вытянутых руках мокрые сиреневые рейтузы, протяжные и тяжёлые, как занавес клубной сцены. – Меня и в тюрьме покормят, а ты без меня с голоду подохнешь!
Жорка лежит в тайнике и в продольную щёлку между поленьями (сам вырезал ножичком) наблюдает за Тамарой. Какое наслаждение следить за ней, оставаясь невидимым! Скоро ей надоест скандалить в пустоту, она плюнет себе под ноги, повернётся и уйдёт в дом. Или станет базарить с соседкой – вон, та уже занимает кальсонами нашу верёвку. Впрочем, вряд ли у Тамары хватит пороху сцепиться с Катериной Федосеевной.
Та чуть ли не каждый год брала себе мужей «на пробу». У соседей они получали порядковые номера. Ныне это был Шестой: маленький, вечно чем-то разгорячённый то ли чечен, то ли даг, то ли ногайский татарин, с курчавыми плечами и заливистым голосом. Этот слегка подзадержался – видать, певучий их дуэт чем-то Катерине Федосеевне полюбился.
Самым удачным её мужем был Первый, тот, что погиб в Польше и там же, под Варшавой, похоронен. Теперь Катерина Федосеевна имеет право каждый год ездить к нему на могилу. Уезжает она всегда в драном, на живульку смётанном полупердине, в таможенной декларации записывая его шубой; в Варшаве покупает уж истинно ШУБУ – роскошную, натурального меха. В ней и возвращается, величаво проплывая таможню, – так океанский лайнер, минуя маяк, входит в бухту: шуба – она шуба и есть, правильно? «Моя заявлена, – говорит Катерина Федосеевна, если вдруг таможенник попался прилипучий, – вон в декларацию гляди. Может, те лупу дать для разгляду?»
По возвращении домой – гениальная спекулянтка! – продаёт шубу с большим наваром.
Ну, а дома сегодня Жорка, пожалуй, и вовсе не покажется, потому как, по всем приметам, дядь Володя сегодня уйдёт в запой.
Когда у дядь Володи начинался запой, об этом мгновенно узнавали все соседи: он выносил в палисадник стол, ставил на него проигрыватель и стопку пластинок, рядом водружал бутылку, а то и две, и некоторое время прохаживался гоголем, изображая «культурного человека».
Поначалу шаляпинский бас погромыхивал над двором: «Блоха?! Аха-ха-ха-ха! Бло-ха!!!»
Блоху сменял Мефистофель, со своим знаменитым: «Люди гибнут за металл!» После Мефистофеля, как по часам, на крыльце возникала Тамара, жалобно подвывая: «Во-ов… но не на-адь…» «Сгинь, мымра глухая!» – гремел дядь Володя в одной с Шаляпиным тональности. Это, собственно, и знаменовало начало запоя.
Зелье в бутылке стремительно убывало, оперные арии сменялись эстрадой: «А-ах, арлекину-арлекину…» – раскатывала Пугачёва, похохатывая, заводя весь двор, так что соседки, прополаскивая в тазу посуду на своих кухнях, подпевали: «Есть одна на-гра-да – смех! А-ха-ха-ха-ха…»
По мере Володиного погружения в бездну неутолённой любви и печали песни становились всё задумчивей и философичней: «…И когда я ве-ерила, се-ердцу вопреки-и… Мы с тобой два бе-ерега у одной ре-ки…»
Далее всё шло по нарастающей: со второй бутылки слетала крышечка, настроение песен становилось торжественно-патриотичным: «День за днём идут года-а… Зори новых пАкАлений…» В какой-то момент дядь Володя пускался в пляс, горланя охрипшим тенорком: «Ле-енин всегда жи-во-ой…» – значит, дело близилось к развязке.
«Не ссыте, суки-граждане! Я закон бля-блюду!» Ровно в 22.55 он ставил гимн Советского Союза и – вытянувшись сушёной воблой – выслушивал его с зачина до резины финального аккорда, правой ладонью отдавая честь, левую положа на сердце. Этот этап запоя можно было считать торжественной увертюрой…
…ибо на следующий день с утра начиналось первое действие данной оперы: скандалы с верхнего этажа подъезда и до самого низу. После энной бутылки водки дядь Володя приступал к обходу соседей. Минут двадцать, цепляясь за перила и препираясь сам с собой, вздымал себя на третий этаж, где, будучи левшой, в первую очередь ломился в квартиру профессора Фёдорова – ту, что слева. Получив там пизды (выражение самого профессора), отлетал к противоположной двери, к профессору Случевскому, получал и там того же, и, рывками скатываясь на второй, а затем и нижний этаж, всюду скандалил и дрался, и просил на жопу орден, пока, наконец, украшенный фонарями и ссадинами, на славу отмолоченный, не вываливался во двор, где мочился на развешенные для просушки простыни…
Тут на него, с мухобойкой в руке, выбегала другая Тамара, Тамарка-татарка, защищая свои простыни от ядовито-жёлтой мочи алкаша. Рука у неё была тяжёлой, дралась она умело и хлёстко. Тогда на защиту кормильца шла в бой Володина жена Тамара-глухая, крича: «На больного человека, блядь, на больного человека!!!». Их поединок вокруг дядь Володи, который путался под ногами, меж кулаками и коленями двух женщин, пытаясь их разнять, становился грандиозным финалом оперы.