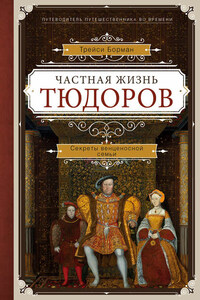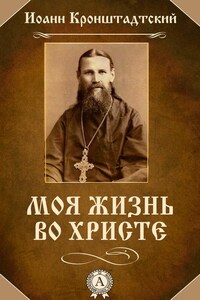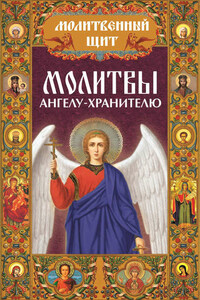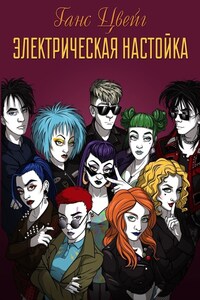Я считаю своим долгом поблагодарить многих людей, оказавших мне помощь и поддержку во время работы над этой книгой. Моих замечательных редакторов Ричарда Бесуика, Лару Хеймерт и Зои Галлен. Сьюзан де Суассон – за многочисленные советы и терпение. Патрика Уолша, самого лучшего литературного агента. Всех тех, кто читал фрагменты этой книги (или даже прочёл её целиком), когда она была всего лишь черновиком на экране компьютера, и тех, кто помогал, задавая вопросы: Ричарда Берда, Найджела Биггара, Пирса Брендона, Фергуса Батлера-Гелли, Пола Картледжа, Тони Кристи, Кэролайн Додс-Пеннок, Чарльза Фёрнихоу, Димитру Фими, Джона Фицпатрика, Питера Франкопана, Джудит Гардинер, Майкла Голдфарба, Джеймса Хеннама, Демиана Говарда, Лэрри Хуртадо, Кристофера Инсола, Джулию Джордан, Фрэнка Макдоно, Энтони Макгоуэна, Тима О’Нила, Шона Оливера-Ди, Гэбриела Саида Рейнолдса, Алека Райри, Майкла Снейпа, Гая Уолтерса, Кейт Уорд, Тима Уайтмарша и Тома Райта. Боба Мура, чьи книги пробудили во мне интерес к темам, которым посвящена эта, – за исключительную щедрость и готовность читать главы по мере того, как они писались. Джейме Мюира – за то, что он, как обычно, первым прочёл итоговый текст – и за то, что он остаётся моим самым надёжным другом. Кевина Слима – за то, что, потакая мне, он без устали выслушивал меня до конца. Чарли Кемпбелла и Николаса Хогга за то, что́ им большими усилиями удалось возродить и без чего годы, проведённые в работе над этой книгой, были бы гораздо менее приятными [3]. Мою любимую жену Сэди и моих столь же любимых дочерей Кэти и Элизу. Цена им – «выше жемчугов» [4].
Лет за тридцать – сорок до Рождества Христова в Риме появился первый отапливаемый плавательный бассейн. Его соорудили на холме Эсквилин, в престижном районе сразу за древней городской стеной. Со временем эту местность облюбовали богатейшие люди той эпохи, и она наполнилась роскошными виллами и парками. Но до тех пор земля за Эсквилинскими воротами пустовала не без причины: столетиями, с самого начала истории Рима, здесь хоронили умерших. Когда строители только приступили к сооружению бассейна, в воздухе ещё витал запах трупов. Ров, бывший некогда частью прославленной оборонительной системы города, наполняли кости бедняков, тех, кому не хватило денег, чтобы упокоиться в могилах. Здесь погребались трупы рабов, «которые раб же в бедном гробу привозил за наёмную скудную плату» [5]. Стервятники, слетавшиеся сюда в таких количествах, что их называли «птицы эсквилинские» [6], обгладывали тела до костей. Пожалуй, ни один район Рима благоустройство не преображало столь сильно. На костях возводились мраморные колоннады, журчащие фонтаны и благоухающие цветники.
Но до полного преображения было ещё далеко. Даже спустя десятилетия после начала застройки земель за Эсквилинскими воротами там всё ещё можно было увидеть стервятников. Хищные птицы кружили над участком, именовавшимся Сессорием и использовавшимся так же, как в старые времена. Это было «место, предназначенное для казни рабов» [7], но, в отличие от арен, где преступников казнили на потеху ликующей толпе, оно лишено было всякой изысканности. Как торговцы на рынке вывешивали на всеобщее обозрение куски мяса, так здесь провинившихся рабов приколачивали к деревянным крестам. Из далёких земель привозили драгоценные семена, чтобы украсить Эсквилин прекрасными зелёными насаждениями, но эти голые столбы напоминали о его тёмном прошлом. Не было смерти более мучительной и презренной, чем распятие. Висеть без одежды и долго страдать от ужасных ран на руках и груди [8]: хуже участи, соглашались римские мыслители, нельзя было и вообразить. Как раз поэтому распятие представлялось им подходящим наказанием для рабов. Только угрожая им столь страшной карой, можно было поддерживать в городе порядок. Процветание и великолепие Рима зависели, в конечном счёте, от тех, кто день за днём выполнял тяжёлую, но нужную работу. «Но после того как мы стали владеть рабами из множества племён и народов, у которых отличные от наших обычаи, которые поклоняются иноземным святыням или не чтят никаких, этот сброд не обуздать иначе, как устрашением» [9].
И всё же, хотя римляне не сомневались, что распятие помогает поддерживать порядок в государстве, отношение к этому виду казни всегда было неоднозначным. Если целью казни было устрашение, проводить её, конечно, следовало публично. Что могло свидетельствовать о подавлении мятежа красноречивее, чем сотни трупов, прибитых к крестам, выстроенным вдоль дороги или перед воротами непокорного города, посреди вырубленных лесов? Даже в мирное время палачи превращали казнь в зрелище, расправляясь с жертвами самыми разными способами: «Одни вешают людей вниз головой, другие сажают на кол, вгоняя его в срамные места, третьи на дыбе растягивают руки» [10]. Но в демонстрации распятых зевакам таилось нечто парадоксальное. Столь отвратителен был трупный дух этого бесчестия, что многие из тех, кто просто наблюдал за распятием, после чувствовали себя запятнанными. Хотя римляне и привыкли к использованию этого наказания в качестве «высшей меры» [11], они отказывались верить, что сами первыми додумались до подобного изуверства. Только какие-нибудь жестокие варвары могли изобрести столь страшную пытку: персы, или ассирийцы, или, может быть, галлы. Всё казалось отталкивающим в приколачивании человека к кресту, который по-латински называется crux, – само слово резало слух [12]. Именно исключительным отвращением к распятию объясняется то, что обыкновенно эта казнь приводилась в исполнение где-нибудь в глухом месте за городскими стенами и то, что, когда разраставшийся Рим поглотил земли за пределами древних стен, там высадили самые редкие и ароматные растения мира, лишь бы замаскировать скверну. По той же причине, несмотря на широкую распространённость распятия в римском мире, об этой казни старались даже не рассуждать. Порядок, порядок, любимый богами и поддерживаемый магистратами, представляющими величайшую власть мира, значение имел порядок, а не уничтожение отбросов общества, осмелившихся на него посягать. Замученные до смерти преступники: какое дело было до них мужам благородным и образованным? Иным выпадает доля настолько низкая, такая убогая, что благоразумнее закрыть на неё глаза.