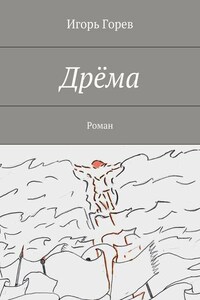Глава первая. Дневник
* * *
– Любовь была!.. Изначально…
Одутловатый майор поднял рыхлое лицо и с рыбьим интересом уставился на старлея, с чьих потрескавшихся губ слетела последняя крамольная фраза. И слова и смысл никак не хотели, в затуманенной голове майора, согласовываться с реальностью. Грубой, брутальной.
Они сидели в ротной полевой палатке, в которой, судя по выцветшему виду, сиживали ещё их деды. В центре топилась изрядно помятая железная печурка, возле неё были составлены тёмно-зелёные ящики из-под снарядов. Ящики служили и столом и скамейками. На ящике-столе тускло горела закопчённая керосиновая лампа, она густо чадила, чёрный дым клубился вверх, где смешивался с вселенским мраком, царившим в палатке всегда, солнечный день не рассеивал его, но лишь слегка разбавлял.
Мрак этот был живой. Он ворочался, кряхтел, сопел, храпел, и, наверное, с тоски хлопал на ветру брезентом.
– Ты чего… это? – майор очнулся, с трудом пошевелился, словно искал точку опоры на узком ребристом ящике для массивного тела. Затем кивнул лысеющей головой, то ли икая, то ли соглашаясь с чем-то, и тем же сиплым апатичным голосом добавил себе под нос, – так, старлею больше не наливать. Он о бабах заговорил.
И майор, основательно подперев подбородком в грудь, снова погрузился в сомнамбулический сон, иногда прерываемый отрывистым всхрапыванием. Тогда он вздрагивал, начинал снова искать точку опоры, как ни странно находил, тянулся к бутылке на снарядном ящике, молча наливал, пил, брал ломтик ржаного хлеба или обветренной брынзы, нюхал, или откусывал, долго жевал, бессмысленно поглядывая на спящего старлея:
– И выпить-то не с кем. Вот жизня…
Майор ещё несколько минут взглядом деревянного божка рассматривал скорчившуюся на краю керосинку, и вдруг захрапел.
Старлей делал вид, что спит. Он пытался и был бы рад глубокому беспробудному сну, ради него он согласился распить со всеми «эти поллитра разбавлёнки» и терпеть нудный, бесконечно нудный рассказ майора Белошапко о превратностях службы начальником штаба полка. Майор всё говорил, а старлей кивал и кивал, протягивая НШ железную кружку. Они были людьми из разных миров, чьи мировоззрения при столкновении в броуновском движении жизни всегда отталкивались друг от друга и бежали прочь. Ни общих интересов, ни непересекающихся запросов, ничего общего, а свели их вместе под шатким пологом армейской палатки война и случай.
Почему-то кажется, что эти слова синонимы.
* * *
Вот так почти каждый вечер, когда не было боевых и тревог, палатка проваливалась в глубокий сон. В сумрачное забытье. Но всегда этому предшествовала вакханалия:
– А не скинуть ли нам стресс, други мои! – Капитан Понамарёв вяло расстегнул подбородочный ремешок и каска, описав крутую дугу, полетела на угловую койку. – Странный факт: вещь для моего организма явно лишняя, он всячески отторгает её, протестует, а и к ней, чертовке, привыкаешь.
– Ты о Клаве – пышнотелом образе тыла?
– Если бы о ней. То привычка для организма приятная и необходимая. Я вот об этом предмете, – капитан Пономарёв опустился на койку и взял в руки каску. – Помню когда впервые надел её. А было это в училище, годков этак… а не важно. У нас был полевой выход и всех заставили не расставаться с автоматом и постоянно носить каску. Так сказать, приучали к трудностям жизни, отцы-командиры. Первый курс, попробуй не исполни. Сами понимаете. И таскали. Зато когда сняли, такое облегчение испытали и ещё долго потом ходили, крутили и качали головами, ну вроде китайских болванчиков. Знаете.
– А чего крутили-то?
Капитан Понамарёв недоумённо обернулся на голос:
– А, военная кафедра. Да тебе не понять. А от того, товарищ студент, что ощущение было такое, будто чего-то в голове не хватает.
– Каски или мозгов, ха-ха.
– А, так эту школу и я прошёл. Чуть позже, уже здесь. Как увидел разбросанные мозги на снегу, с тех пор и не расстаюсь. Пригодится.
– Что каска?
– Мозги.
– А почему все молчат. Поступило предложение.
– Пономарёв ты будто первый день в армии что ли. Поступило – наливай.
Почти все офицеры, находившиеся в палатке, сгрудились у печурки. Любители карт, изрядно выпив со всеми и закусив, отсели в сторонку, «к ломберному столику».
Разговор странным образом вернулся к каске:
– Да что б тебя!
– Что на шило сел?
– Хуже – на каску.
– Ты её не ругай. Она, конечно, вещь неудобная, но привыкаешь быстро – жизнь заставляет. Меня вот от снайперской пули спасла. Я теперь без неё и в уборную ни шагу.
– Да, прелюбопытная вещь эта привычка. То, что вчера ещё отвергал всеми фибрами души, сегодня без этого уже не представляешь как жить.
– Иоанн, а ты чего нас всех оставил?
Захмелевший, весь красный от короткого ёжика волос до грязно-белого подворотничка, капитан Понамарёв повернулся в сторону лежащего на койке старлея:
– Мы тут каску обсуждаем. Обществу хотелось бы знать и ваше особое мнение. Оно ведь у вас всегда особое.
Старлей молчал, делая вид, что дремлет.
– Нет, вы посмотрите. Наш славный Иоанн, брезгует нашим обществом, так получается, что ли? Ио-анн!
Старлей, не открывая воспалённых век, впервые за весь вечер заговорил:
– Ох, Пономарёв, и вечером ты мне не даёшь покоя.
– Покой нам только снится. Итак, обчество ждёт, – Пономарёв, ехидно щурясь и нассмешливо морща лоб, оглядел сидящих гурьбой офицеров.
Ответом ему были одобрительные усмешки.
– Да, Иоанн, просвети нас тёмных.
Старлей привстал на локте:
– Привычка, говорите? Не мучьте голову лишними вопросами – вы же, всё равно, не собираетесь отвечать на них. Верно?
– А вдруг?
– Тогда не малюйте на каске символы, не служите им и, вообще, не поклоняйтесь вы ей.
– Ты знаешь, я ещё ни разу не кланялся собственной каске. Только однажды, когда упал в грязь.
– Не обманывайтесь, товарищ майор.
– Ты за кого меня держишь?!
– Вы знаете меня, я уже всем говорил: я никого не измеряю какой-либо земной меркой. А насчёт каски, так вы первые меня спросили. В Москве в Александровском парке разве вы не кланяетесь каске?
– Ну-у старлей, это ты уже хватил через край. Ты это… святое не тронь. Понял!
– Понял, товарищ майор. И к вам будет просьба: не будите меня, когда мне хочется вздремнуть.
– Вот гад, – отворачиваясь от койки, где лежал старлей, прошипел едва слышно жилистый майор, играя желваками на щеках, – там, может, мой дед лежит. А он…
* * *
Какая война, спросите вы? Да разве это имеет значение: на какой войне люди с воодушевлением убивают друг друга. И делают это так запросто, так лихо и героически, с такой сноровкой, будто разделывают кусок мяса на кухне, успевая при этом шутить и обмениваться рецептами приготовления гуляша и отбивных.