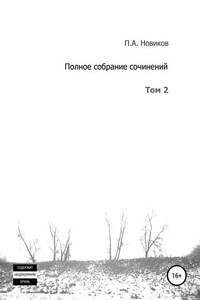Дуэт для скрипки и альта
Полонез Огинского
Старенькое пианино в кабинете, заставленном книгами. Высокий круглый стул-вертушка. Когда папы днём нет дома, я тихонько пробираюсь к стулу, сажусь на него и кручусь, кручусь – вверх-вниз, вверх-вниз. Вечером папа приходит, садится в большое кожаное кресло и что-то пишет перьевой ручкой в толстой тетради. «Папа работает», – говорит мама. – «К нему нельзя». Я подхожу к двери и поворачиваю ручку, она скрипит. Папа кричит:
– Кто это?
Я молчу, но дверь открываю. Папа встаёт из-за стола, подходит ко мне, берёт на руки, потом сажает в своё кресло, открывает крышку пианино и наигрывает мелодию одной рукой. «Полонез Огинского», – поясняет он. Я думаю, кто такой Огинский, зачем ему полонез и почему музыка всегда грустная. Папа придвигает стул-вертушку, подкручивает под себя, садится, играет двумя руками. Музыка не становится веселее, она похожа на шум осеннего дождя, когда я стою у окна в детском садике и жду маму.
– Там-та-ра-ра-ра-рам-та-ра-рам… – Играй, папа, я прощаюсь с тонюсенькими косичками и неестественно большими синими бантами, завтра мы идём в парикмахерскую. Играй, папа, мы собираем вещи и уезжаем из старой квартиры, где в моей комнате за кроватью осталось нарисованное краской на обоях сердечко, а во дворе в лопухах зарыт секретик с цветными стёклышками. Играй, папа.
Мне двадцать два года и я выхожу замуж. Весёлая студенческая свадьба! Ленточки на стареньких «Жигулях», Грибоедовский ЗАГС, очередь из невест в платьях-близняшках, похожие на костюмы снежинок, серьёзные женихи в строгом тёмном курят на лестнице перед входом. Я в белом фраке, купленном у спекулянта за бешеные деньги и никакой фаты! Нам очень смешно – входим в зал, расписываемся в огромной книге, кольца, «вы можете поцеловать» и «объявляю Вас». Потом фотографироваться в Сокольниках, заехать в общагу Гнесинки, там ждут друзья! Мы входим в комнату, шампанское, конфеты, кто-то включает магнитофон.
– Там-та-ра-ра-ра-рам-та-ра-рам…
– Полонез Огинского, – бледнеет муж. – «прощание с Родиной». Муж – музыкант, он знает всё про Огинского.
– Да ладно тебе, – пытаюсь шутить. – С Родиной же, не с женой.
– Там-та-ра-ра-ра-рам-та-ра-рам… – Не выключайте магнитофон! Я успею подумать о стареньком расстроенном пианино, клавиши – натруженные пальцы, потрескавшийся лак на коричневой крышке. Его оставили в квартире, когда переезжали, полуразвалившийся хлам. Я вспомню любимый стул-вертушку в кабинете, заставленном книгами и папу, он наигрывает мелодию одной рукой.
Через десять лет в душном районном ЗАГСе мы подаём заявление на развод.
– Вы хорошо подумали?
Лето, жара, я остаюсь в пыльной Москве, он уезжает на гастроли. У нас нет детей, обязательств. Квартира благородно подарена, теперь друзья. У меня остался огромный мешок с фотографиями, старыми, плёночными. Он не захотел их брать, я понимаю, в новой жизни никому не нужно чужое бывшее счастье. Я сажусь в машину и включаю радио.
– Там-та-ра-ра-ра-рам-та-ра-рам… – Свадебное путешествие в Прибалтику, плотные волны белого песка, прибрежное кафе, крепкий коньяк и мороженое с тёртым шоколадом. – Пойдём купаться? – Смеёшься, там градусов пятнадцать!
Я открываю окно и закуриваю. Начинается дождь. Вспоминаю себя маленькую в детском садике. Я жду и жду маму. Она опаздывает.
Звучит Полонез Огинского. Только на этот раз я точно знаю, что за мной никто не придёт.
Осенний Псков. Рядом с Великой, на набережной, мама учит сестру ходить. Получается не очень. Гипс мешает. Когда Машке исполнилось полгода, и врачи наконец-то поняли, что что-то не так, её положили в больницу, а оттуда привезли в гипсе, обе ножки, закованные в каменные белые сапоги, а ещё распорка, её снимали несколько раз в день, врождённый вывих бедра.
Сестра всегда была упрямой, поэтому ходить научилась. Врач сказал: «Необходимо держать ритм и тренироваться, каждый день утром и вечером по часу, будет больно».
Сентябрь, тепло, гуляют дети, играют в мяч. «Раз, два, раз, два», – повторяет мама. – Машенька, держи ритм, потихоньку, раз, два, раз, два, вот умница моя, вот молодец, ну потерпи ещё немножко, раз, два.»
Через два года Машка уже бегала, а когда я закончила началку, мама купила нам велосипеды – яркие, блестящие «Камы». Мне – зелёный, сестре – красный.
– Держи ритм! Раз, два, раз два! – кричу я. – Крути педали!
До одури наплескались в Пскове и поехали кататься. Дорога широкая, асфальт положили недавно, ветер в лицо, лето, пахнет полынью, скорость, лопухи на обочине, подорожники. Резкий поворот – и я лечу вниз. Велосипед сверху, коленка вдребезги!
– Хорошо, что не ты, Машка, хорошо, что не ты!
Плачу и размазываю кровь по ноге.
– Я повезу твой велик! Ты осторожно, Кать, медленно, раз, два, – говорит сестра.
Машка никому не рассказывала о своём диагнозе, не жаловалась, когда нога начинала ныть в дождь, и едва заметно прихрамывала после тяжёлого волейбольного матча в школе. А потом сестра сама себя записала в музыкалку, пришла, спела «Пусть бегут неуклюже», простучала ладонями замысловатую мелодию. Её записали на скрипку, в группе были свободные места. Учитель Юлиан Юрьевич предупредил сразу: «Заниматься много, каждый день по два часа и всегда стараться держать ритм. Понимаешь, Маша? Ты должна слышать внутри».
Сестра очень старалась, пилила и держала ритм: утро, подъём, школа, музыкалка, уроки, заниматься. Когда ей исполнилось шестнадцать, Машка уехала в Москву поступать в Гнесинку. Наверное, на экзамене она хорошо держала ритм, потому что прошла и даже получила место в общаге. Я приезжала к ней на весенние каникулы, мы устраивали экскурсию по метро: меняли кучу пятачков, выбирали линию и исследовали каждую станцию, смотрели «Четыре ноль в пользу Танечки» в кино и ели мороженое в цирке на Вернадского. А на Новый год сестра возвращалась домой, в Псков, втроём с мамой мы катались на лыжах, наряжали ёлку, пили шампанское.
Когда я выходила замуж, Машка позвала в ресторан свой ансамбль: «Катюха любит живую музыку», и весь вечер они играли, играли, играли.
Букет в воздух! Раз, два!
– Лови, сестра!
Смеётся: «Не сейчас!»
После свадьбы я перебралась в Москву, маму забрала к нам, сестра часто ездила на гастроли. На день рождения племянницы новоиспечённая тётя подарила ей маленький золотой кулончик-скрипку.
– На счастье! – сказала она.
Через три года мы с мамой провожали Машку в Израиль на ПМЖ. 1988 год. Мы прощаемся. В Шереметьево полно народу, объявляют посадку. Мама всё поправляет и поправляет воротничок своей безупречно отглаженной блузки, как будто он её душит. Сестра подходит ко мне: «Ты давай здесь, Катюха, держи ритм. Навсегда? Ты что? Увидимся, я верю».