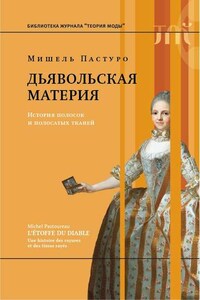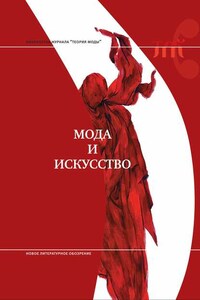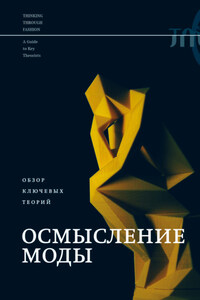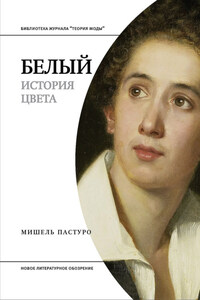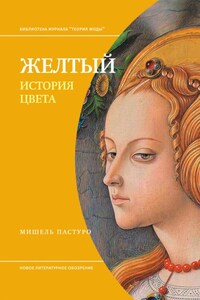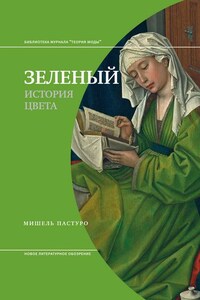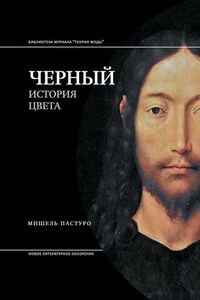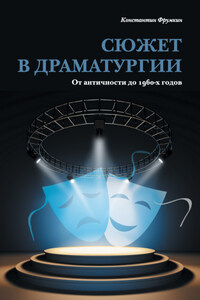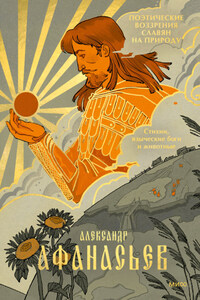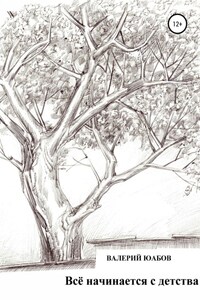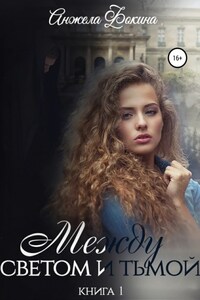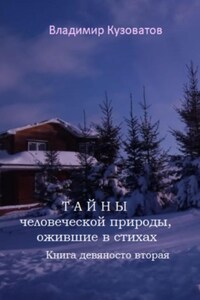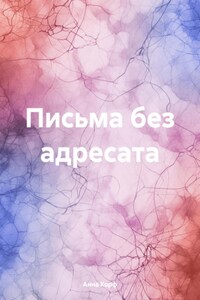Порядок и путаница в мире полосок
…в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся.
Книга Левит (19: 19)
«Этим летом отважьтесь на шик в полоску!» В этом экстравагантном слогане, что несколько месяцев назад заполнил рекламные щиты парижского метро, важно каждое слово. Но, думается мне, самое значимое здесь – глагол отважиться. Получается, что в самом появлении на публике в полосатой одежде есть что-то неестественное и шокирующее. Для этого надо обладать определенной смелостью, преодолеть застенчивость и не бояться оценки окружающих. Но отважившийся будет вознагражден: он приобщится к шику, к той непринужденной элегантности, что отличает людей утонченных и свободных. Мы вновь видим парадокс, столь характерный для нашего времени: для успешного функционирования любой социальный код может и даже обязан изменяться с точностью до наоборот. Так то, что изначально воспринималось как нечто ущербное и неполноценное, становится знаком превосходства.
Словом, историку тут есть о чем подумать. Велик соблазн обратиться в глубь веков и провести параллель между предполагаемой дерзостью нынешних полосок и многочисленными скандалами, которые они вызывали на протяжении всего Средневековья. Мы увидим, что полоски – это всегда неспроста, и история костюма демонстрирует это с особой наглядностью.
История, литература и иконография средневековой Европы свидетельствуют о множестве персонажей, традиционно носивших полосатую одежду. Евреи и еретики, шуты и жонглеры, палачи, проститутки и прокаженные, а также воин-предатель из романа о рыцарях Круглого стола, безумец из Книги Псалмов и сам Иуда Искариот – все они были изгоями и отверженными, все они нарушали или искажали существующий порядок вещей, и все они в той или иной мере связаны с дьяволом. Составить список всех этих «отверженных в полосатых одеждах» – дело несложное; гораздо сложнее понять, почему именно эта одежда была призвана подчеркнуть их негативный статус. Причем здесь нет ничего мистического или случайного – напротив, множество источников открыто характеризуют одежду в полоску как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.
А может быть, люди Средневековья искали в Священном Писании оправдание для собственной нелюбви к полоскам? Действительно, в 19‐й главе книги Левит, наряду с прочими предписаниями морального и культурного характера, запрещающими смешивание, в 19‐м стихе мы читаем: «Veste, quae ex duobus texta est, non indueris» («В одежду из разнородных нитей… не одевайся», буквально – «одежду, сотканную из двух». – Прим. пер.). Но латинский текст Вульгаты мало что объясняет, равно как и Септуагинта. Можно предположить, что в исходном тексте за duobus следовало существительное, уточняющее, какие именно ткани или элементы одежды запрещено сочетать. А значит, допустимо и такое прочтение (исходя из слова texta, а также нескольких параллельных мест из Ветхого Завета): «Не надевай одежды из шерсти и льна» (то есть сотканной из ткани как животного, так и растительного происхождения)[1].
Или же стоит сделать акцент на duobus – возможно, имеется в виду duobus coloribus? Тогда фразу следует понимать следующим образом: «В двуцветную одежду не одевайся». В современных переводах Библии выбран первый вариант, поскольку он ближе к греческому тексту, но средневековые теологи и священнослужители иногда предпочитали второй и могли увидеть запрет на украшения и цвета даже там, где речь шла исключительно о волокнах и тканях.
А если суть проблемы не только и не столько в текстологии, но в особенностях зрительного восприятия? Создается впечатление, что человек Средних веков болезненно воспринимал любые изображения на плоскости, где фигура недостаточно отделена от фона, так что трудно сфокусировать взгляд. Глаз средневекового человека склонен к тому, чтобы последовательно считывать пласт за пластом. Любая картина, любая поверхность кажется ему выстроенной «в глубину», точно слоеный пирог в разрезе. Это структура, состоящая из нескольких планов, наложенных друг на друга в определенной последовательности, и для того, чтобы прочесть изображение правильно, нужно, начав с заднего плана, пройти все промежуточные пласты и закончить передним планом – логика, противоположная нынешнему способу восприятия. Но с полосками такое чтение становится невозможным: здесь нет ни заднего, ни переднего плана, ни фона, ни фигуры; существует лишь двуцветная плоскость, поделенная на четное количество полосок то одного, то другого цвета. В случае с полосками, как, впрочем, и с шахматной доской (еще один образ, подозрительный с точки зрения средневекового восприятия), структура совпадает с фигурой. Не в этом ли причина скандальной репутации полосок?
В данной книге мы не станем ограничиваться периодом Средневековья и будем говорить не только об одежде. Мы рассмотрим историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и покажем, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, не отменяя при этом предыдущих, что постоянно усложняло систему значений, связанных с полосками. Так, во времена Возрождения и романтизма получили распространение «правильные» полоски – знаки праздников или экзотики, а также символы свободы, – что никак не отменяло существования полосок «отрицательных». Современная же культура восприняла все практики и коды предыдущих эпох. В ней есть место всему: полоски, сохранившие «дьявольские» коннотации (унизительная полосатая одежда, которую носили узники лагерей смерти) или сигнализирующие об опасности (например, зебра, шлагбаум, а также другие элементы и знаки дорожного движения); полоски, связанные с гигиеной (постельное и нижнее белье), игрой (игрушки и другие товары для детей) и спортом (спортивные костюмы для отдыха и профессиональная экипировка), и, наконец, полоски как эмблематическая единица – атрибут униформ, знаков различия и флагов.
В Средние века полоски говорили о прегрешении и нарушении нормы. Однако с наступлением эпохи Нового времени они постепенно превращаются в элемент упорядочивания действительности. Но хотя полоски и организуют мир и общество, сами по себе они по-прежнему противятся любой организации и жестким рамкам. Для них годится любая поверхность, более того, они могут сами создавать поверхности, переходя, таким образом, в пространство бесконечности: любую полосатую поверхность можно представить как одну из полос на другой поверхности, также полосатой, но на порядок больше и так далее. Семиотика полосок поистине неисчерпаема[2].
Именно поэтому в последующих главах мы будем говорить не столько о семиотике, сколько о социальной истории. Занявшись проблемой полосок, в конечном итоге задаешься вопросом: как визуальное и социальное связаны между собой в рамках одного сообщества? Почему, например, на Западе в течение очень долгого времени для обозначения социальной иерархии обходились исключительно визуальными средствами? Значит ли это, что зрение классифицирует лучше, чем слух и осязание? Всегда ли