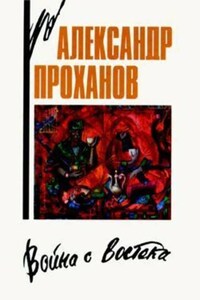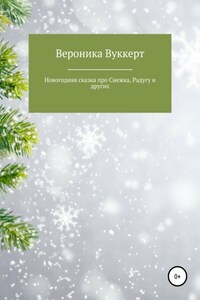На низком и глубоком стуле сидит похудевший донельзя человек; на нем халатик и трогательно смятая вокруг тонкой шеи белая сорочка, с которой как бы не сошел еще отпечаток мучительной ночи. Сидит он, немного подавшись вперед, и смотрит прямо перед собою, и в самой позе его чувствуется то особое, пристальное, как бы хищное любопытство, которое умел испытывать только Гоголь.
Да – это Гоголь. Это – его тревожная заостренность черт, и его, столь для нас близкая, глянцевито завесившая ухо, скобка волос.
Прямо перед сидящим – широкий раствор очага, и огонь наивно похож там на прихотливо разросшийся тропический куст.
В ногах у Гоголя, возле самого огня, – казачок на корточках и ждет его приказаний. Один небольшой сверток мальчик, не глядя, уже подпалил, а другой и покоробившаяся от соседства с пламенем тетрадка ожидают своей очереди.
На камине не столько вещь, как эмблема – часы, но, должно быть, уже с тонко звенящим, больше не державинским боем.[1] На втором плане накрытый точно для молебна столик и там античная люцерна[2] и кто-то крылатый сделал последний шаг, чтобы дунуть на огонь светильника и погасить существование Гоголя. Но крылатому стало страшно или грустно? Он неловко осел на выступившую уже правую ногу и так и замер, закрыв лицо бескровными кистями рук. А в распахнутой двери остановилась сплошь, с головою, закрытая белая фигура, книзу расходящаяся конусом, и чья-то невидная рука высоко держит перед покрывалом небольшой и поблескивающий потир.
Я пересказал вам один наивный и трогательный рисунок,[3] сделанный в самый год смерти Гоголя. Вот еще, значит, когда началась гоголевская легенда. Я бы хотел, однако, посмотреть на рисунок Солоницкого немножко иначе, чем привыкли мы это делать, говоря о смерти Гоголя особенно. Забудем, хоть на минуту, о трагедиях. Пусть Гоголь здесь в последний раз и, несмотря на все немощи, страхи и напутствия, переживает еще раз и вопреки всему тот восторг дорожных созерцаний, в котором когда-то волшебно слились для нас и Гоголь-фантаст, и Гоголь-реалист, и Гоголь раздумья, и Гоголь смеха, и Гоголь-ястреб, и сентиментальный Гоголь.
Пусть это не свиток загорается с отнятым у нас сокровищем, а уже готовый потухнуть – вспыхивает напоследок и тот единственный в мире поэт, который умел слить в экстатической любви к бытию, – не к жизни, а именно к бытию, – пыльный ящик с гвоздями и серой и золотую полосу на востоке и у которого прозрачный и огненный лист клена, даже сияя из густой темноты своей, не дерзал кичиться перед рябым столбом придорожья.
Пусть это еще прежний Гоголь устроил себе перед очагом последний праздник золотого перебирания страниц жизни, где, фантастически сменяясь, проходят перед ним пятна картин, то солнечных, то туманных, то лунных. Вот безвестный городишко весь засыпан месяцем. Вон – переправа на скользко-туманном рассвете. Вон – сад сомлел от полудня. И не опять ли сладострастно чередуется для Гоголя это, еще в детстве излюбленное им, засыпание в бодрящем холодке уже сдавшейся ночи и томное пробуждение под солнцем, почти отвесным. И ведь именно там, в дороге, даже скорей, пожалуй, в воспоминании о дороге, и рождались не только дразнящие пятна гоголевских картин, но и гениальнейшие из его синтезов. И даже самая Русь-Русь, чего ты хочешь от меня? – и та не была ли она лишь полудетским миражом в итальянской панораме воспоминания?
И разве не дорога, не гоголевская дорога с ее простором, с волшебной примиренностью ее пестроты, с ее унылым зовом и безудержным порыванием вдаль, – не вперед, заметьте, а именно вдаль, в безвестное, – разве не эта дорога дала Гоголю и те стихии, которые, слившись в один укоризненно-фантастический символ, обусловили не только грандиозный план «Мертвых душ», но и неизбежность покаянной за них расплаты?
А что греха таить, господа… Ведь «Мертвые души» и точно тяжелая книга и страшная. Страшная и не для одного автора. Чего заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит: «Мертвые души»… Ведь никогда и нигде в мире то, что называют пошлостью, так не покоряло и так не было прекрасно. Что уж тут на клячу-то заезженную ссылаться, – заездили, мол, добродетельного человека.
Да и отца Матвея не лишнее ли беспокоить?
Дело в том, что в каждом из нас есть два человека, один – осязательный, один это – голос, поза, краска, движение, рост, смех.
Другой – загадочный, тайный.
Другой – это сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас. Но другой – это и есть именно то, что нас животворит и без чего весь мир, право, казался бы иногда лишь дьявольской насмешкой.
Первый прежде всего стремится быть типом, без типичности – ему зарез. Но только второй создает индивидуальность.
Первый ест, спит, бреется, дышит и перестает дышать, первого можно сажать в тюрьму и заколачивать в гроб. Но только второй может в себе чувствовать бога, только второго можно упрекать, только второго можно любить, только второму можно ставить моральные требования, и даже нельзя их не ставить…
Гоголь оторвал первого из двух слитых жизнью людей от второго и сделал его столь ярко-типичным, люди у него вышли столь ошеломляюще-телесными, что тот, второй человек, оказался решительно затертым. Он стал прямо-таки не нужен даже, так как первый, осязательный, отвечал теперь за обоих. И вот, новый в литературе, этот первый весело принялся царить – смеясь царить.
Ну, скажите… Вот Чичиков в только что сшитом фраке наваринского дыма с пламенем, вымытый одеколоном, целует сапоги у чиновника, превысившего его рангом.[4]
Неужто у вас повернется язык сказать, что это, мол, Гоголь карает стяжание, сребролюбие и низость?
И разве вы хоть на минуту подумаете, что здесь-то и лежит основание художественной концепции Гоголя? Или – можете вы себе представить, что вот на постели старая Коробочка, и у нее жидкие, седые косенки распустились, что к постели подходит с дароносицей старенький священник и что вдруг какой-то страстный инстинкт тысячелетней веры возносит эту скудную душу из ее мотков и талек на такую чистую, такую заоблачную высь,[5] что туда не посмеет заглянуть, пожалуй, и иной философ…
Типическая телесность Гоголя, оставляя в тени сумеречного человека, безмерно росла зато вширь.
Она загромоздила, она сдавила мир. Не только вокруг Собакевича, но и возле него, даже на нем были только Собакевичи. И мужики, и избы, и даже имена мужиков, и кушанья, и стулья, и дрозд, и фрак, и герои на стенах – все были Собакевичи. И не так, как Вертеры и Гамлеты, когда те так поэтично окрашивали мир своей элегией или драмой, нет, по-другому, конкретней, телеснее, а главное, страшнее, потому что, делая все собою, этот центральный Собакевич и сам фатально нисходил на ранг вещи, самую типичность свою являя в последнем выводе лишь кошмарной карикатурой.