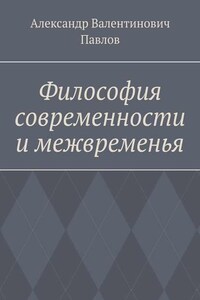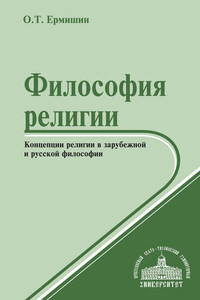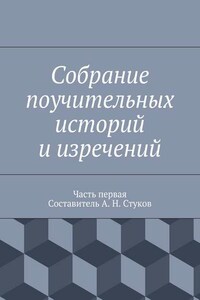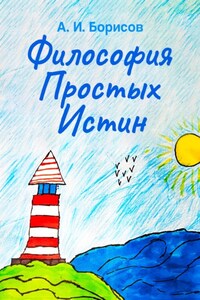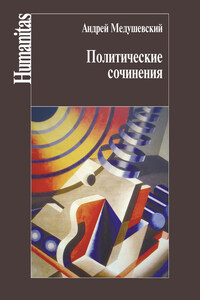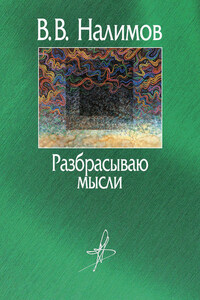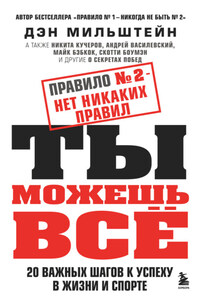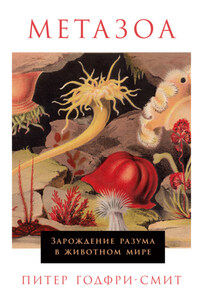Книга д. филос. н., профессора А. В. Павлова написана безупречным русским языком. В ней есть образные пояснения, мягкий юмор. Однако это отнюдь не научно-популярное сочинение. Это серьезное исследование, которое требует не столько чтения, сколько изучения и анализа. Неспешные, весьма тонкие рассуждения автора о социокультурном субъекте, современности и межвременье изложены в свойственной ученым беспристрастной манере с использованием общепринятой сегодня научной терминологии. Эмоции и оценки ограничиваются только горько-саркастическими замечаниями автора по поводу российского прошлого и настоящего да редкими вздохами по несбывшейся демократической мечте об обществе свободных индивидуальностей. Мечте, которая (заметим) так созвучна К. Марксу и Ф. Энгельсу: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»1.
На мой взгляд, философия А. Павлова – это экзистенциалистский постпозитивизм. Два крыла западноевропейской философии (экзистенциализм и позитивизм), которые, будучи «заклятыми друзьями», на протяжении полутора столетий определяли ее характер и содержание, нашли в философии А. Павлова общий постмодернистский язык с присущими ему понятиями и метафорами. И это не какой-то «мокрый огонь зеленого вкуса», как можно предположить в первый момент. Это синтез достаточно органичен. Он стал возможным, потому что для экзистенциализма и позитивизма общим является утверждение автономности индивида как субъекта. С той лишь разницей, что в экзистенциализме индивид есть субъект онтологический, который из переживаний своего существования творит свое бытие и свою сущность, а в позитивизме индивид – это субъект познающий, гносеологический. Напомню, что позитивизм вырос из кантовского учения об активности познающего субъекта: «Задача науки, – писал И. Кант, – состоит не в том, чтобы познавать законы природы, а в том, чтобы предписывать ей их»2.
Хосе Ортега-и-Гасет в статье, написанной по случаю 200-летия И. Канта, писал, что вся его философия выросла из одного семени – страха перед ошибкой. А может быть, страха перед бытием вообще. Отсюда – знаменитый кантовский агностицизм (есть и такая трактовка). Перефразируя испанского философа, можно сказать, что вся постклассическая философия выросла из страха перед утратой индивидом своей неповторимости и свободы творчества.
Именно этот страх свойственен большинству философов, на которых чаще всего ссылается автор. Вот их имена: Бадью, Барт, Бодрияр, Бубер, М. Вебер, Витгенштейн, Гадамер, Гваттари, Гуссерль, Делез, Деррида, Камю, Т. Кун, Кьеркегор, Леви-Строс, Лиотар, Ницше, Сартр, Тоффлер, Фуко, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Шопенгауэр, Шпенглер, Щюц, Элиас, Ясперс. Как мы видим, все они – представители неклассической философии, а лидерами по частоте цитирования в книге —Делёз и Сартр. Формально позитивисты автором почти не упоминаются, но его подход к социально-исторической реальности, при котором – в полном соответствии с позитивизмом Огюста Конта – отвергаются (как антинаучные) метафизический и религиозный, а тем более мистический подходы, говорит сам за себя. Исключение составляет лишь метафизическое в своей сущности полагание бытия человеческого Я.
Разумеется, цитируются и представители классической философии. В первую очередь И. Кант. Значительно реже упоминаются Маркс с Энгельсом и Гегель. А вот Фалес, Гераклит, Платон, Аристотель, Аквинат, Декарт, Спиноза, Лейбниц – один-два раза. Из русских философов-классицистов – только В. С. Соловьев (один раз, да и то в полемическом ключе). Таким образом, даже по внешним признакам методология автора основана на западноевропейском (преимущественно французском) экзистенциализме и постмодернизме ХХ столетия. Самая характерная их черта – субъективный идеализм, когда всё и вся выводится из субъекта, а всякая детерминация (онтологическая и гносеологическая) низводится к простой привычке, как это делал еще Д. Юм, история – к мифу, а традиция, право и власть – к насилию над свободной индивидуальностью.
Проблема как марксизма, так и неклассической западноевропейской философии— при всем их эвристическом потенциале – состоит в нигилизме, неприятии и отторжении этими философами современного им состояния общества (вплоть до разрушения всего и вся), в неспособности любить своё отечество и свою историю. Это свобода без истины, поскольку без любви к предмету познания познать его в его истине довольно проблематично, а может быть, и невозможно. Я отнюдь не призываю автора к официозному, квасному или слезливо-сентиментальному патриотизму. Любовь к отечеству критике не помеха. Один из самых беспощадных критиков российских порядков и нравов, генерал-губернатор Н. Е. Салтыков-Щедрин говорил: «Я люблю Россию до боли сердечной». Просто свобода вообще и критики, в частности, может базироваться только на том, чтобы принимать мир таким, каков он есть, точнее, таким, каким он стал в результате своей истории. Вне и без этого свобода теряет всякий смысл и ценность, оставаясь лишь мучительной мечтой. Более того, она превращается в рабство.
Марксизм и западноевропейскую философию ХХ века объединяет пафос утверждения свободы индивида с той лишь разницей, что в марксизме эту свободу еще надо завоевать, а в философии ХХ столетия важно её не утратить. Когда Н. Бердяев утверждал, что русский коммунизм – явление более русское, чем принято считать, наверное, он имел в виду и «бунташный характер» как русского народа, так и марксизма.
Но обратимся непосредственно к тексту. Конечно, неблагодарное это дело – пересказывать содержание не своей книги. Автор, наверняка, ужаснется, увидев свой текст в кривом зеркале рецензента, ведь даже буквальная цитата вне контекста нередко обретает какой-то иной, совсем не предполагаемый автором смысл, а краткий пересказ неизбежно связан с упрощением авторской мысли. Поэтому я буду говорить только о тех положениях концепции и отдельных суждениях А. Павлова, которые лично мне представляются, хотя и не бесспорными, но достаточно интересными и познавательными, по возможности оставив за рамками рецензии наши с автором принципиальные разногласия в оценках прошлого и настоящего, природы и сущности диктатуры и демократии, специфики России и Запада.