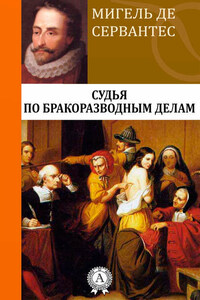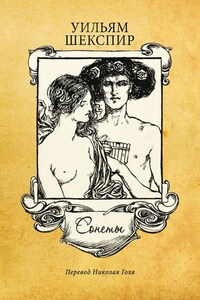Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благостными к несчастным: вы здесь не найдете греческих басен[1], украшенных выдумкой, ни битв троянских[2], запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно, или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то, уверена, нежные лица ваши зальете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, будут они утешеньем в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой, нежели прочной, начиная со счастливых дней, чтобы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем доведу свое слезное повествование как могу до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я – удрученная, заливаясь слезами, молю – если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моею скорбью, – молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу найти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.
в которой госпожа описывает, кто она, какие предзнаменования указывали ей грядущие несчастья, когда, где, как и в кого она влюбилась и последовавшее за тем счастье
Я родилась от благородных родителей[3], воспринятая благостной и щедрой судьбою, в то время года, когда возрожденная земля кажется наиболее прекрасной. О проклятый и противнейший из всех дней день моего рожденья! Сколь счастливей было бы мне не родиться или быть погребенной тотчас после печального рождения! Если б имела я не более долгий век, нежели зубы, посеянные Кадмом[4]>(*), если б Лахесис[5]>(*), свою нить начавши, оборвала тотчас! В младенческом возрасте прекратились бы бесконечные скорби, что ныне печально нудят меня к писанию. Но к чему эти жалобы! Тем не менее я живу, такова воля господня, чтобы я существовала. Итак, рожденная, как я уже сказала, среди благ жизни и вскормленная в них, отданная с детства до нежного отрочества под надзор почтенной наставницы, я приобрела привычки и манеры, свойственные знатным девицам. И как мой рост с годами увеличивался, так усиливалась и моя красота, источник моих необычайных бедствий. Увы! когда еще маленькую меня хвалили многие за красоту, я гордилась этим и старалась с усердием и искусством сделать еще большею свою прелесть.
Сделавшись более взрослой и угадав, наученная природой, какие желания возбуждают прекрасные дамы в юношах, я узнала, что моя красота (несчастный дар для тех, кто желает жить добродетельно) рождала любовный пламень в моих сверстниках и в других благородных людях. И они различными способами (мало мне тогда известными) пытались неоднократно возжечь во мне тот же огонь, которым сами горели и от которого я впоследствии больше, чем кто бы то ни было, не только согрелась, но и сгорела; многие усердно ко мне сватались, но так как я вышла замуж за одного из них, вполне подходящего ко мне во всех отношениях, то вся толпа влюбленных, как бы лишенная надежды, перестала меня добиваться. А я, совершенно довольная таким супругом, жила в полном счастьи до той поры, пока неистовая страсть с небывалою силой не овладела молодою душой. Увы! не было ничего, способного успокоить мое или какой-либо другой женщины желание, что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!
В то время, как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, – судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если б я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, – и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.
Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью дерев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и сделав из отобранных милый веночек, надела его на голову. И так украсясь, поднялась – что Прозерпина>(*), когда Плутон ее от матери похитил[6]; так с песней шла я раннею весною; потом, устала что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же как Эвридику>(*) в нежную ногу сокрытая ужалила змея[7], меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; не взвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к прежней ране и долго кровь мою пила, пока – так снилось мне – вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханьем вместе, виясь, виясь по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая