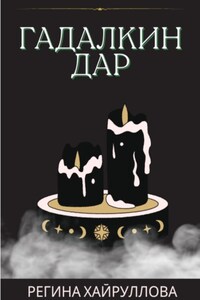Скрип-скрип. Противный звук. Мария хотела ускориться, но из интереса остановилась под ржавой вывеской и прочла: «Гадание на свечах. Определю длину жизни. Найду скрытую истину».
«Бред какой. И кто сейчас вешает вывески? Кто вообще ходит к гадалкам?» – подумала Мария и бросила взгляд на приоткрытую дверь, около которой растаял снег. За ней, должно быть, сидит обветшалая старуха, окутанная паутиной и мраком.
Скрип-скрип. Опять скрипит. Надо бы поскорей уйти.
– Входи, – раздался старушечий голос, и Марии показалось, что он исходит то ли из подвала, то ли из глубин ада…
Не до конца понимая зачем, она всё же заглянула в комнату и сама не заметила, как вошла.
Пахнуло мёдом и душицей, как когда-то давным-давно, то ли в детстве, то ли ещё раньше, до появления на этом свете. Дыхание мёда влекло и мягко грело, и тёплое дуновение после зимнего холода чудилось родным и ласковым. В полутёмной комнате трещали огарки, их мягкий свет вытаскивал из тьмы кусочки пространства вдоль стен, будто кто-то вырезал части фотографии и положил её на чёрную бархатную ткань, и вместо лиц теперь зияла пустота, тогда как нетронутые части оставались видимы, и меж островками тьмы плыли стол с десятком свечей, два ветхих стула и гадалка: старушка с треугольником шали на плечах. На полу у двери таял снег.
Было тепло и душно, и кружилась голова.
– Жаждешь познать сокрытое, дитя?
– Да нет… я вообще-то мимо шла.
– Само провидение привело тебя ко мне. Присядь, дитя, – сказала гадалка, указывая на стул напротив себя. Он перестал плыть во тьме и застыл, словно гадалка приковала его к полу своими словами.
Мария невольно села. Неужели и её приковали слова?
– Я зажгу твою свечу, и ты узришь, сколько тебе суждено жить, дитя моё.
Гадалка не глядя оторвала пучок травы, который висел на стене, и вдавила его в желтоватую свечу из вощины.
– Дай волос, дитя, иначе огонь не узнает тебя и не улицезреет.
«И куда я ввязалась?..» – подумала Мария и нехотя вырвала волосок из-под шапки. Больно и жалко. А ещё жарко.
Когда гадалка положила волос поверх свечи и зажгла её, Мария хотела спросить, почему это огонь должен её узнавать, но не успела.
Затрещал фитиль, глаза ослепило.
Всё исчезает, и остаётся только пламя, пламя, одно лишь пламя во всей Вселенной, танцующее, тёплое пламя, оно всё затмевает, оно убивает и порождает, оно танцует древние танцы, поблёскивая то одним бубном, то другим, оно колышется, напевая древнюю песню, поднимаясь ввысь, к небесам, к предкам, что светят из глубин Мироздания, оно влечёт, оно манит к себе, и песня его подобна прибою, и печальной мелодии ветра, и плачу земли, и разуму, что появляется из пламени; разум и есть пламя, такое же поспешное и покойное, созидающее и разрушающее, поистине всепоглощающее. Солнечное пламя солнечной свечи с сухоцветами на воске.
Пламя. Просто пламя на свече.
Мария сняла шапку и встряхнула головой, отгоняя дурман видения. Было невыносимо жарко, и пот стекал на глаза, щипля их, и она расстегнула куртку, после чего посмотрела на гадалку. Её лицо будто помолодело или наоборот постарело – в таком свете не разобрать, – но точно изменилось.
– Что это было? Что это у вас за травы?
– О чём ты, дитя?
– Я видела пламя, и оно танцевало, и что-то мне пело. Мне так показалось, – добавила она, чувствуя себя ужасно неловко и пугаясь тому, что только что дышала какой-то травкой.
– Пламя не могло говорить с тобой, дитя. Оно говорит лишь со мной. Но оставим это, – нервно сказала гадалка и взглянула на свечу. Та и не думала сгорать: оплавился лишь самый верх размером с пятирублёвую монетку.
– Странно, – пробормотала гадалка, низко нагнувшись над горящей свечой. Пламя подскочило и опалило старушкины брови. – Адский потрох! Паразит! – она замахала руками на огонь, но он лишь поднялся выше и едва не сжёг ей волосы. – Гадёныш! Вот же гадёныш! – ядовито закричала она, растягивая слова.
Шипя и ругаясь, гадалка накрыла свечу крышкой и воззрилась на Марию. Ей стало неловко и почему-то стыдно, будто это из-за неё пламя сожгло старушке брови.
– Та-ак, – выдохнула гадалка, потирая виски. – Вы, собственно, кто?
– В смысле?
– Кто такая, я спрашиваю? Кто? – громко и грубо повторила гадалка.
Мария оскорбилась и встала.
– Маша я.
– Иди-ка ты, Маша, отсюдова. Чтоб духу не было! Кыш! – закричала старуха и замахала на неё руками.
Мария сконфузилась, надела шапку и вышла наружу. Свежий морозный воздух ледяными когтями вцепился в горло и отрезвил её. «Что за глупости?» – подумала она и отправилась домой.
Гадалка же осталась наедине с огнём. Как только Мария ушла, пламя поднялось под самый потолок, подкоптило его и рухнуло вниз, прямо на шаль. Шерсть вспыхнула и сгорела.
– Ах ты мерзавец! – закричала гадалка, обливая себя водой. – Как ты смеешь?! Паршивец, а! Паршивец! – причитала она, стряхивая с плеч мокрый пепел. – Ты очумел, что ли? – уже спокойнее спросила она, когда огонь еле теплился на одной единственной свече – на её собственной, маленькой, оплывшей и дурно пахнущей. Гадалка осторожно взяла огарок в руки и села с ним за облитый стол. Она внимательно смотрела на слабый огонёк, но не видела ничего, кроме собственной жалкой комнаты и жалкого огарка. Сколько она ни всматривалась, пламя с ней не говорило.
– Ну что это такое? А? – вздохнула она. – Обиделся, что ли? Та-ак, – протянула она спустя пару минут. – Я делаю вид, что ничего не было, а ты больше не дуришь. Согласен?
Огонь промолчал. Аполлинария – так звали гадалку – вздохнула и стала прибираться. Не успела она закончить, как в дверь постучали.
– Можно к вам? – тоненьким голосом спросила женская голова из дверного проёма.
Аполлинария вгляделась в лицо и решила, что женщине должно быть лет тридцать. На всякий случай она уточнила и узнала, что пришедшей и вправду ровно тридцать.