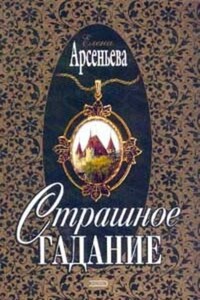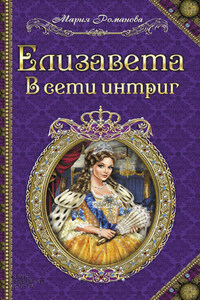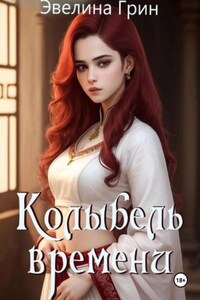Глава 1
Прибытие незнакомки
Чудным майским днем 18… года по утоптанным дорожкам старого сада, окаймленным первой, свежей, яркой, совсем еще не доросшей до косьбы травой, бежала девушка лет восемнадцати, одетая с той небрежной простотой, которую позволяют себе наши уездные барышни, уверенные в том, что гостей нынче не будет, а значит, можно позволить себе не изощряться с нарядами. На ней было зелененькое барежевое[1] платьице, в котором эта светловолосая девушка и сама казалась цветком, подобием тех одуванчиков, которые там и тут росли в траве под деревьями.
Сад был полон птичьим щебетом, пронизан солнечными лучами, осенен голубым, ясным небом, благоухал свежестью и первым яблоневым цветом, и все здесь являло картину самого радостного бытия… Все, кроме лица девушки. Его нежные, милые черты были омрачены тревогой. В руке девушка держала распечатанное письмо, изредка взглядывая на четкие резким, острым почерком написанные строки, и тогда еще пущее беспокойство выражалось на ее лице, а взгляд пугливо обегал окрестности, словно ей чудилось, будто за каждым деревцем или кустиком таится опасность.
Девушка выскочила из-под деревьев на просторную поляну, за которой находился барский дом – одноэтажный, но на высоком фундаменте, с двумя флигелями по обе стороны фасада, выдержанный во вкусе истинно русского «деревенского классицизма», при котором дворяне наши сельские изощрялись деревянным, оштукатуренным и покрашенным в желтый и белый цвет строениям придавать внушительный вид и благородные пропорции, – и со всех ног бросилась к крыльцу, на котором был накрыт к чаю стол, а рядом с беспокойным видом похаживала женщина, одетая по-старинному – в сарафане, простом летнике и в повойнике. Впрочем, при появлении девушки она немедленно приняла внушительное, строгое выражение и сказала:
– Зачем бегать так-то?! Сколько раз говорено!
У нее было полное, румяное лицо сорокапятилетней женщины, еще не утратившее красоты и некоторой свежести, однако его весьма портили густые, сросшиеся у переносицы брови и пронзительные черные глаза. И даже при взгляде на девушку они не смягчились, как если бы перед ней был провинившийся ребенок, а не взрослая барышня.
– Извольте руки мыть, Олимпиада Андреевна, да за стол скорей. Пышки небось простыли уже, – сказала она с укоризною, но осеклась, только сейчас обратив внимание на письмо, которое сжимала девушка. Мгновение смотрела на него с хищным выражением, а потом протянула: – А э-э-это еще что такое?!
– Зосимовна, – проговорила та, которая была названа Олимпиадой Андреевной, хотя гораздо более пристало бы ей ласковое имя Липушка… к слову, именно так ее и звали покойные родители, а оттого и мы станем называть именно так, как бы ни изощрялись строгая нянька, почтительные слуги или вежливые соседи, – Зосимовна, со станции почту привезли[2]. Я как раз около ограды была, меня мальчишка окликнул и письмо передал. Зосимовна, это от нее письмо! Она ответ написала! Она едет! Она здесь будет не нынче, так завтра!
Черные брови Зосимовны так и столкнулись у переносицы, выражая суровое недовольство, но тут же лицо приняло равнодушное выражение:
– Не пойму, о чем вы лопочете, барышня. Кто такая она? Куда едет? Откуда? Какой-такой мальчишка и что за письмо он вам отдал?!
– Разве ты не видишь? – Липушка нетерпеливо сунула ей бумагу, которую держала в руке. – Александра Даниловна едет! Ну, мадемуазель Хорошилова, та самая, о которой перед смертью говорил батюшка! Которой и он писал, и я написала сразу после его кончины, а она все не отвечала! И вот ответила! И едет!
– Откуда вы это письмо взяли, Олимпиада Андреевна? – быстро спросила нянька. – Кто вам его передал?
– Или ты оглохла? Да говорю ж тебе – мальчишка! – с досадой ответила Липушка. – Деревенский какой-то, белобрысый… а, вспомнила! Это Федотка, сын кузнеца. Да-да, помню, как мы с Николашей Полуниным катались, а у моей Незабудки расшаталась подкова, и мы остановились около кузни, а этот Федотка нам квасу напиться приносил, а квас оказался кисловат, и Николаша сказал, что не квас это, а сущая татарская буза, и Федотка обиделся, заревел и начал ныть, барин-де басурманами их называет, коли говорит, будто их квас – это буза татарская. А Николаша…
– Погодите, барышня, – бесцеремонно прервала Зосимовна, и выражение простодушного, самозабвенного оживления, которое взошло на лицо Липушки, когда она вспоминала об этом эпизоде, а особенно – когда произносила имя неведомого Николаши, мигом угасло. – Как письмо к этому Федотке попало?
– Да почтальон передал, как еще? – пожала плечами Липушка. – Там целый пакет был газет, которые еще батюшка выписывал, но от которых мы никак не можем отписаться, мною заказанные журналы, альманахи, книжки… Все это Федотка должен вот-вот в дом принести, он в обход пошел, вокруг забора, а я как письмо увидела, так схватила его – ну как было удержаться, к нам же никто давным-давно уже, с тех пор как батюшка скончался, не пишет, – прочитала – и мигом напрямик, через сад. Так я Федотку и обогнала… А вот и он идет, – указала она на мальчишку, входящего в ворота со стороны большой дороги и несшего в охапке объемистый рогожный мешок – из тех, в каких отправляют многочисленную почту, направленную по одному адресу.
Был мальчишка белобрыс, веснушчат, босоног, одет в домотканую одежду и мало чем отличался от прочих своих деревенских сверстников. Правда, выражение его синеглазой физиономии было весьма смышленое и даже лукавое. Впрочем, при виде сурово сошедшихся бровей Зосимовны он сбавил шаг и начал сбиваться с ноги. Вид его сделался озабоченным и виноватым. Однако это произошло не потому, что он на самом деле чувствовал за собой провинность. Просто в присутствии строгой няньки, по сути дела – домоправительницы и, после смерти барина, управительницы имения, всякий из протасовских крестьян начинал ощущать себя виновным во всех смертных и несмертных грехах и в любую минуту мог ожидать от нее наказания, всегда сурового и никогда не отменявшегося даже прежним господином, тем паче – робкой барышней.
– С каких это пор ты, Федотка, почтальоном заделался? – сурово спросила Зосимовна. – А Савелий где же?
– Да там, у реки, на мостках. Там девки столовое белье полощут. Савелий и задержался с Агашей поболтать, – простодушно пояснил Федотка. – Увидел меня и говорит – на-ка вот тебе, держи-ка, снеси к Зосимовне почту. Да гляди, говорит, неси бережней, мешок вон разошелся. – В подтверждение своих слов Федотка показал барышне и Зосимовне порванный край рогожки. – И только он это сказал, как из прорехи возьми да и выпади письмо. Савелий глянул – он же грамотен! – и говорит: ага, это барышне, вишь, написано: г-же Протасовой Олимпиаде Андреевне в собственные руки, – его в мешок не клади, не то снова вывалится… Я письмо за пазуху сунул, пяток шагов прошел – гляжу, барышня за оградой гуляет. Ну, я и отдал письмо ей в собственные руки, как там написано.