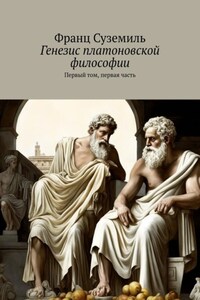В «Филебе», как и в большинстве диалектических произведений, наблюдается отказ от художественной стороны. Место и время остаются необозначенными, тем более что диалог предстает как уже начатый и, таким образом, ведет прямо в суть дела. Таким образом, он с самого начала предстает как новое, углубленное рассмотрение, начиная с конечных причин, темы, которая уже была подготовительно рассмотрена Платоном, а именно в «Горгии». Там она рассматривалась только чисто этически и с точки зрения сократовского «учения о понятиях», на котором в то время еще стоял Платон;1 здесь же этическое должно быть поставлено так строго, как это всегда позволяет его природа, в единство с диалектикой и учением об идеях. Там речь шла лишь о возвышении добродетели или познания блага над удовольствием, здесь же можно найти лишь зачатки различия между добром и злом, истинным и ложным удовольствием, и поэтому здесь еще более усиливается предположение, что Сократ до сих пор защищал против Филеба только дело проницательности против удовольствия, как если бы эти два дела были абсолютно взаимоисключающими, и что дело еще не дошло до признания различных видов. Ибо как там Калликл, так и здесь Филеб выступает еще более как презиратель всякой действительной науки, полагающий, что он может достичь удовольствия без помощи мысли, как представитель самого грубого, совершенно лишенного воображения материализма, и пока эта точка зрения остается такой же, как и точка зрения удовольствия, знание может быть только исключительным по отношению к ней, поскольку эта точка зрения как таковая не отвечает даже на научное опровержение. Если там подлинно научная дискуссия с Калликлом уже оказалась невозможной, то здесь переговоры с Филебом ни к чему не привели, ибо, подобно Калликлу и еще более упрямо, в нескольких словах, которые он то и дело бросает между более далекими разговорами, он по-прежнему постоянно противопоставляет доказательствам Сократа утверждения о силе, с. 12. A. ср. 22. C., и объявляет их простым догматизмом, с. 28. B., хотя этот упрек относится только к нему самому и в конечном счете свидетельствует о полной неспособности поставить себя на место оппонента, то есть вообще придерживаться научного взгляда? p. 27. E. Но подобно тому, как худшим из недостатков понимания является высокомерие, он также считает себя вправе проявлять некую отеческую и защитную манеру по отношению к другим молодым людям с такой же любовью к удовольствиям, p. 16. B., именно из-за своего бессмысленного упрямства, хотя среди них есть куда более способные представители этого дела, которые, подобно Протарху, высмеивают его самомнение. Само обозначение Филеба как прекрасного, p. 11. C., кажется, содержит иронический подтекст, что, в испорченной манере прекрасного, он сразу же прервал разговор с Сократом, когда тот пошел совсем не в его пользу; кроме того, есть упрек (с. 12. A.) и совет, данный с весьма насмешливым оборотом речи 2(с. 15. C.), не втягивать Филеба обратно в разговор – а именно, чтобы он не мешал строго регулярному и научному ходу его. Его междометия, которые, тем не менее, время от времени возникают, когда вопрос, как ему кажется, отклоняется от истинной цели диалектического рассуждения, в то же время используются Платоном, чтобы намекнуть, что это отнюдь не так, p. 17. E. 18. D. E., точно так же, как отношение отдельных членов к ходу всего исследования всегда постепенно и ясно подчеркивается, а все боковые скачки и другие мелкие живые случайности разговора избегаются. Особенность собеседников также обозначена лишь несколькими резкими штрихами, и даже это имеет значение для преобладания строго научной установки, что оба собеседника в остальном неизвестные лица, и в этом отношении мы не узнаем о них в самой беседе ничего больше, чем то, что Протарх – сын Каиаса, с. 19- B. (см. ниже), так что даже предположение 3о том, не является ли Филеб, согласно его имени, любитель юношеской красоты4, просто вымышленной фигурой, как элеатский Незнакомец и Диотима, не столь уж невероятно.
Против точки зрения Филеба ничего не оставалось делать, как просто утверждать абстрактную предпосылку сократовского знания, чтобы получить основание для решения вопроса в первую очередь. Но теперь, чтобы наполнить саму эту предпосылку конкретной жизнью, в расчет принимаются только те взгляды, которые возможны на этом основании. Таковы, с одной стороны, аристипповское сочетание удовольствия и прозрения, в котором, однако, только первое является действительным высшим благом, а второе – лишь средством к нему; с другой стороны, противоположное полное отрицание удовольствия у киников, у которых, однако, теоретическое знание столь же мало вступало в свою правоту в связи с этим, но служит практическому знанию, причем таким образом, что и оно остается лишь средством к цели, к настоящей цели жизни, которая заключается в отсутствии нужды, так что в интересах самой науки ее слияние с удовольствием должно было казаться Платону, как и Аристиппу, необходимым лишь в обратном смысле. Наконец, для мегарян, хотя знание само по себе является целью жизни, практическое знание слишком непосредственно поглощается теоретическим, так что первое не достигает никакого самостоятельного развития, вот почему Эвклид, кажется, не высказался более точно о предосудительности удовольствия или его совместимости с проницательностью. Таким образом, и предмет полемики оказывается более всеобъемлющим и научным, чем в «Горгии», где речь шла еще только об обычном взгляде на жизнь, обращенном к удовольствию, и самое большее – о взгляде Аристиппа, поскольку последний впервые выразил его ясно и систематически. Поэтому Сократ получает в лице Протарха более равного соратника, который, хотя и не придерживается никаких философских взглядов, а лишь любит удовольствия, присущие обычной жизни, но, будучи от природы любознательным и проницательным, p. 12. D. 13. A. B. f. 14. C. f., и т. д. 23. D. 36. A. 41. A. 42. D. скорее представляет собой несовершенную смесь удовольствия и проницательности, которая является истинной целью диалога и которую Сократ отныне представляет как мастер. В конце концов, однако, Протарх во многом испытал на себе влияние философии времени, поэтому (см. ниже) в его уста можно вложить некоторые аристипповские фразы, 12. D. 38. A. 42. D. ff. Аллюзия на его отца Каиаса, известного друга софистов