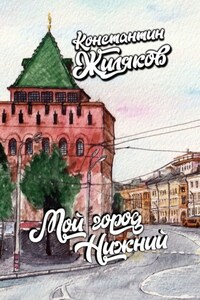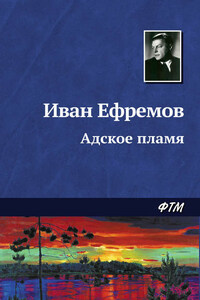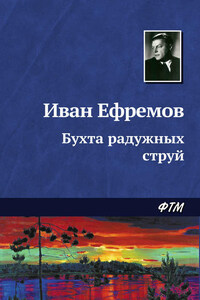Яслям пошли младенца, Господи Всеблагой,
Ясности мыслям, крик – молчащим устам.
Чтоб, как во тьме ступень нашариваешь ногой,
Вдруг все понять, на город глядя с моста.
Юлия Левитова
Теплый летний день. Московский сквер, укрытый в колодце домов – ряды скамеечек, песчаные дорожки и шелестящая зелень лип, детская площадка неподалеку и небольшой водоем – место несущественно, пусть это будут хоть Патриаршие пруды, важны лишь солнечный свет, тепло, ленивый покой и переливающаяся мозаика прозрачных теней от листьев под ногами.
На скамье у дорожки сидит молодая белокурая женщина в светлом платье. Она читает книгу, ногой в то же время автоматически покачивая стоящую рядом большую коляску. Иногда, зачитавшись, она прерывает монотонность качания. Тогда из-под марлевого полога, отделяющего купол коляски от внешнего мира, незамедлительно раздается сонное и недовольное кряхтенье просыпающегося младенца. Женщина, виновато спохватываясь, снова начинает качать, и дитя, для порядка немного похныкав, удовлетворенно смолкает…
Благостную тишину нарушают лишь крики играющих на площадке детей. После особенно громкого их вторжения женщина сама, не дожидаясь знака изнутри, приподымает полог, обеспокоенно заглядывает внутрь, что-то осторожно поправляет. Но обитатель коляски спит. Шум смолкает. Солнце мелькает в листве. Глаза женщины постепенно закрываются, ее тоже тянет ко сну – дают себя знать ночные бдения над младенцем. Качания коляски затихают…
Но новое кряхтение не заставляет себя ждать, и все повторяется, и длится снова – качание, плывущая тишина, солнечный свет…
Эта пастельная пастораль, или, вернее, городской пейзаж, не имеет непосредственной связи с какой-либо из героинь последующих рассказов. Это лишь взмах мимолетной вечности, полдневная мечта, если угодно, пролог, главная задача которого – добравшись до конца действия, стать эпилогом. Потому что любой из рассказов о рожденных и даже нерожденных детях должен иметь конец, и если он не похож на нашу картинку, повесть становится трагедией.
Картина кажется предельно незамысловатой, ибо что может быть естественнее, чем мать и дитя, но если приподнять полог, за простотой может открыться жизнь в таких ее проявлениях, которые порой невозможно бывает предположить за стерильностью завесы.
Но все равно нет ничего радостнее, и вместе с тем целостнее и завершенней этой картины. И когда она становится эпилогом, мы можем снова и снова читать рассказы, повторяющиеся так или иначе, всегда и ежедневно – рассказы о наших вымечтанных, зачатых, живых, рожденных и ожидаемых детях.
Рассказ первый
Страшно даже подумать
Ирочка была из тех, кого называют «мамина дочка» – тоненькая, беленькая, аккуратненькая. Она и действительно была маменькиной дочкой, ничем иным она стать и не могла бы – единственный, да к тому же поздний ребенок, плюс две бабушки-пенсионерки, которые пылинке упасть на нее не давали, плюс мамин характер в придачу.
Мамин характер, это, что называется, была отдельная песня. Лариса Викторовна изнутри и снаружи, до кончиков безукоризненно наманикюренных ногтей, была типичной редакционной дамой. Редакционная дама – есть такой женский тип – это внешность, это стиль жизни со всеми вытекающими манерами, повадками, ну и характером соответственно. Высокая и худая (не путать с дамой академической – те, как правило, слегка полноваты, что, впрочем, их не портит), как бы высохшая, с птичьим островатым носом и удивленно поднятыми, выщипанными в ниточку бровями. Волосы выкрашены в неопределенно-каштановый (не яркий, упаси Боже) цвет и подвергнуты химической завивке. Впрочем, однообразие цвета волос определялось, наверное, не столько личными пристрастиями, сколько техническими возможностями – в парфюмерных магазинах в те времена изобилия не наблюдалось, и, кроме извечной хны, выбирать было особо нечего. Одета всегда скромно и изящно одновременно – все тон в тон, ничего лишнего, никаких брюк, никаких вам – фи, моветон, – мини. Элегантная юбка-годе, шарфик на шее, ну, может, легкий излишек неброской бижутерии в стиле фольк – было одно время в моде, так и прижилось. Да, и непременно крупный оригинальный серебряный перстень на сухом длинном пальце, старинный ли прабабушкин, сделанный ли народными умельцами в подпольной мастерской из мужской запонки, тут уж кому как везло. У Ларисы Викторовны, естественно, был старинный.
Работают подобные дамы, как ясно из определения, в разнообразных больших и малых редакционных коллективах, занимая должности разных уровней – от машинистки до выпускающего редактора. Причем чем меньше коллектив, тем, как правило, характернее внешность дамы. Лариса Викторовна работала в некоем географическом издательстве средней величины, должность имела не самую важную, но и не из последних, и, таким образом, ничем из ряда собратьев (сосестер) по цеху не выделялась. Ничем, кроме одного, хотя именно это одно и сыграет ведущую роль в нашем повествовании. Редакционные дамы в большинстве своем бездетны (почему – Бог весть, но факт), у Ларисы же Викторовны была дочка Ирочка, родила которую она поздно – в тридцать шесть – и для всех, включая себя самое, неожиданно. Эта неожиданность и сопутствующее ей удивление легким, почти незаметным для постороннего глаза флером всегда присутствовали в отношении матери к дочке, не слишком мешая, впрочем, воспитательному процессу.
Процесс, о да, имел место быть. Ирочка с детства не мыслила себя иначе как под строгим материнским контролем, который ничуть не ослабевал даже тогда, когда та отбывала на службу. Две бабушки, живущие с ними, Ларисы Викторовны побаивались, все указания по поводу Ирочки выполняли беспрекословно, давая по вечерам подробнейший и детальнейший отчет в каждом детском шаге и помысле. Ни в какой детский сад Ирочка не ходила, в школу-из школы (а она посещала, кроме обычной школы, музыкальную, как положено девочке из хорошей семьи, и еще художественную в придачу) бабушки ее провожали до восьмого класса, пока не была слезно вымолена пятнадцатилетнею Ирочкой хоть эта небольшая вольность – самой переходить двор и два тихих арбатских переулка.
Не стоит думать, что Лариса Викторовна была жестока к Ирочке, ничуть, дочку она любила, другое дело, что сама любовь была для нее проявлением одной из форм обладания. Она была тираном, но тираном милостивым, кроме свободы – а зачем девочке свобода – Ира ни в чем отказа не знала, ее и одевали, и учили, и к морю вывозили, благо средства позволяли. Для Ирочки же мать всегда была и образцом для подражания, и главным советчиком, чьи мнения не подвергались ни оспариванию, ни, в сущности, осмыслению.