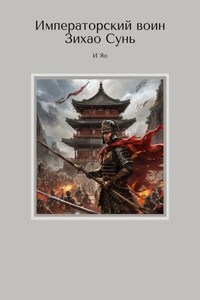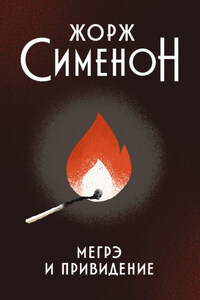Вопрос о том, почему мы немцы, а живем в России, возникал, очевидно, в любой немецкой семье у любого ребенка, как это автор мог воссоздать по воспоминаниям в своей семье и у себя лично.
Этот вопрос еще не занимал его, пятилетнего малыша, во время высылки семьи в Сибирь с переходом Второй мировой войны на территорию России. Тогда ему поездка на поезде, хотя и в «вагоне-телятнике» и на нарах, застланных как общая постель на три семьи, представлялась замечательным путешествием, позволявшим через маленькое окошко вагона с высоты второго этажа этих нар каждый день и каждый миг видеть новые картины природы и новые бытовые сценки на станциях. В общем, в противовес взрослым, сидевшим, ходившим и раговаривавшим с печальными и озабоченными лицами, малышу жизнь казалась интересной и удивительной.
И даже тогда, когда семью из семи человек высадили в маленькой деревушке в Сибири, в предгорьях Алтайских гор, он должен был на некоторое время удовлетвориться ответом отца, что «так надо». Но уже через несколько месяцев, когда ему исполнилось шесть и из дома один за другим стали уходить в какую-то трудармию взрослые мужчины, 17-летний брат матери Гельмут, отец, а затем и старший брат Гарри, сразу после того, как ему исполнилось 16, то матери кратким ответом «так надо» отделаться от него уже не удавалось. Ему нужно было знать – почему?
Она была вынуждена объяснять нам, троим оставшимся в ее семье «мужчинам» 11, 6 и 3 с половиной лет, почему мы высланы с Кавказа, где все было так хорошо, сюда, в эту Сибирь, где все так плохо. Объяснять, почему мы не русские или казахи, как остальные ребята в поселке, почему нас дразнят немцами и фрицами, и много-много другого.
А когда и ее, хрупкую молодую женщину, тоже забрали в лес для работы на лесоповале, и мы, трое детей, остались в совхозной бригаде, в деревушке на 40 дворов без детского сада и даже начальной школы, совсем одни, тогда вопросов возникало еще больше, но ответить на них было некому.
Только заминка с дальнейшей отправкой женщин со сборного пункта в лес и решительность матери, позволили ей, вопреки всем строгим предписаниям, вернуться в село, убедить единственного начальника, одноногого старика бригадира Михеича в том, что ей, якобы разрешили взять детей с собой. Этим святым обманом ей удалось спасти свой «выводок» от неминуемой голодной смерти. На лесоучастке, глубоко в тайге, с примечательным названием Большая Яма, в бараке бывшего лагеря для заключенных, мать уже на следующий день сумела распознать смертельную болезнь, воспаление легких, у старшего, достать необходимые средства для лечения домашними средствами и выходить его, а далее на скудный паек прокормить и сохранить жизнь всех троих.
И вот тут-то, вечерами, если оставались силы у матери после тяжелой работы по пояс в снегу на валке вековых пихт и сосен, мать отвечала нам на все наболевшие у нас вопросы. Вот тогда начались наши семейные «университеты», тогда мы узнали, какое отношение имеем мы, немцы, живущие в России уже более 200 лет, к тем, кто теперь пришел в Россию с оружием в руках, чтобы поработить народы страны, с которыми мы мирно жили бок о бок, по братски делясь в трудное время последним куском хлеба или щепоткой соли. От матери узнали мы огромную разницу между нами, уже давно россиянами, и теми, вроде бы единокровными немцами, которые пришли убивать грабить и разрушать, чем нанесли и нам, российским немцам, непоправимый вред, вызвав к нам недоверие и злобу местных жителей.
От матери узнали мы, что первые немецкие поселенцы появились на Волге по приглашению императрицы Екатерины Второй, но наши предки, как по линии отца, так и матери, приехали в Россию, вернее Малороссию, а теперь – Украину, на сорок лет позднее, но тоже уже очень давно, так что жили здесь, то есть, на Украине, не менее 7—8 поколений.
Ах, мама, милая мама, она старалась передать нам все, что знала из истории, но больше всего из своего жизненного опыта, поскольку сама закончила только 4 класса церковно-приходской школы, а затем была вынуждена работать в крестьянском хозяйстве отца, где была старшей и нужно было прокормить еще 5 сестренок «мал-мала» и братика.
Потом замужество за учителем, уехавшим за 200 километров из родного села после того, как посадили его отца, трудолюбивого крестьянина, откровенно высказавшегося на деревенском сходе относительно пьяниц и бездельников, ставших после октябрьского переворота хозяевами в немецкой колонии. Сын еще раньше отказался от претензий на отцовское крестьянское наследство, решив жить своим учительским ремеслом. Но и здесь молодого учителя новая власть не оставила в покое.
Под угрозой расстрела его, далекого от политики человека, но грамотного, насильно включили писарем в безграмотную комиссию по раскулачиванию, у которой в списке на первом месте стояла фамилия тестя. Да и как мог он потом, после окончания работы этой комиссии, смотреть в глаза своим ученикам, отцов которых увезли в район, и дети их больше не видели. Он не мог больше здесь работать, не мог же он объяснять каждому ребенку, что он был включен в комиссию насильно, под угрозой немедленного расстрела за «саботаж» правительственного постановления, что он не имел решающего голоса, был только писарем. Снова уехал за двести километров, лишь только бы забыть кошмар этого страшного 29 года.
Так началась у молодой семьи жизнь с постоянными перемещениями, потому что отец семейства отлично чувствовал момент, когда какой-нибудь рассерженный на него сослуживец может написать донос в органы внутренних дел. А попав однажды в их цепкие лапы, вывернуться от них было нелегко, они работали по плану, отпущенному сверху, а план нужно было выполнять, еще лучше перевыполнять, так что разбираться, сказал ты что-то против советской власти, или нет, не имело смысла, проще было состряпать дело и «шлепнуть».
Отец, уже в молодые годы наученный горьким опытом общения с представителем Губчека, размахивавшим перед ним револьвером, когда убеждал стать писарем команды по раскулачиванию, с годами хорошо чувствовал, когда наступил момент, чтобы удрать туда, где никто о тебе ничего не знает. А семья росла, и каждый новый ребенок, четверо, и все мальчики, рождались все в новом населенном пункте, все дальше от первого, не меньше 200 километров.
Кроме четырех сыновей у матери Амильды был на руках еще и принятый в семью несовершеннолетний брат ее, которого хотели перед войной усыновить, чтобы на нем не висел советский жупел «лишенца», как сына раскулаченного и посаженного в тюрьму отца.