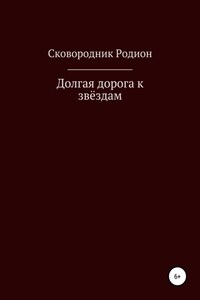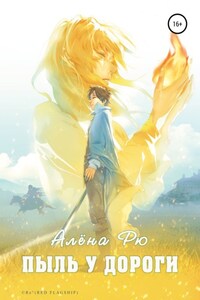В актовом зале института связи было комсомольское собрание. Слушалось персональное дело комсомольца Удавкина, студента второго курса. Согнали весь курс, а может, и не один.
Я сидела где-то сзади и рисовала в блокноте. Мне плевать было на этот институт, на всех этих людей и на комсомольца Удачкина. Я его, как и всех прочих, и по фамилии-то не очень знала. По имени знала, врать не буду – то ли Вадик, то ли Славик. Он был паренек с фанабериями, там был какой-то непростой папа и нервная система тоже не очень.
Комсомолец Удалкин обвинялся в контактах с иностранными гражданами. С гражданами стран – членов НАТО. Мне эта повестка была непостижима: профиль вуза был да, околооборонный, но мы были не на службе и никаких подписок не давали. Почему Славику не полагалось контактов, я не очень понимала, но мне было плевать, я хотела домой и никого из этих людей не видеть вообще никогда, дальше этого мои политические идеалы не простирались.
Дома у меня о политике не говорили. Кто-то трусил, кто-то брезговал. В свои 18 лет я была совершенно незамутненная и к советской власти относилась ровно так же, как к миру в целом – говно, конечно, полное, но жить можно, если поменьше соприкасаться.
Между тем слово взял комсомольский секретарь факультета, освобожденная гнида на зарплате. Он поведал, что студент Ударкин был замечен во встречах с какими-то девицами из Западной Германии и чуть ли не в провожании их до дома или наоборот, я не очень внимательно слушала.
Нервный Вадик запальчиво возражал, что не видит в этом ничего предосудительного. Комсомольский лидер на это молол тоже какую-то активную чушь. Я изнывала и хотела в туалет, в Гостиный Двор и в кафе-мороженое «Лягушатник». Я не понимала, что вообще такого произошло, что надо сидеть здесь с этими идиотами.
С места встал комсорг группы. Это был рассудительный колхозник после армии, на фоне тонконогих однокурсников – серьезный мужик. Скажи нам, Славик, проникновенно начал он. Скажи нам, своим товарищам. Вот зачем??? Ну я правда не понимаю! Зачем тебе это понадобилось???
Хоть я и прочла к тому моменту раз в двести побольше этих комсоргов, все равно я была малолетняя курица с Гражданского проспекта. Ни одного живого иностранца я не видывала в глаза и даже не представляла, где их берут и с какой целью. Для меня все это было чистой абстракцией. Но из-за этой абстракции я сидела с идиотами в актовом зале, а не ела мороженое с подружкой. Единственное, что я тогда подумала своими ленивыми мозгами, – и правда, зачем? Он там гулял невесть с кем, а я тут теперь из-за него сижу. Неужели трудно было обойтись без этого? Ну, без контактов этих? Я бы на его месте обошлась. Не наживала бы себе проблем и другим бы жить не мешала.
Дело, однако, двигалось в сторону резолюции. Резолюция вырисовывалась паршивая. Исключение из комсомола означало автоматом исключение из института и армию. В Афганистане шла война.
Я вначале сказала неправду. Я отлично помню, как звали этого студента. Я ненавидела его всей душой.
Он и вообще был хамоват, но это мне было все равно, я на курсе ни с кем не общалась. Но однажды в лаборатории мы с ним не поделили место. Я заняла стул – поставила туда сумку, а он мою сумку скинул на пол и уселся. А когда я пришла и хотела сесть, он меня толкнул. Сильно. У всех на глазах. И я села на другое место.
Я просила своего жениха набить ему морду, но жених, шире его в плечах в четыре раза, вместо этого стал что-то лепетать, и Славик только поржал.
Секретарь встал зачитывать решение. Парня отправляли на верную смерть за то, что он тусил с иностранными девчонками. Все было очень торжественно, теперь полагалось встать и хлопать. И я встала и хлопала. Я не делала вид. Я хлопала.
До перестройки оставалось два года.
Теперь, когда мои друзья ужасаются тому, что вдруг стало с людьми. Почему они все это делают и т. д. Когда они вопрошают, откуда это все берется.
Я ничего не говорю. Я вспоминаю себя на том собрании.
Я знаю, откуда это берется.
В Германии не принято носить золотые украшения. Т. е. не принято в определенных кругах. Дамы университетские, дамы творческие тире креативные, дамы идеологически продвинутые – золота не носят. Они носят либо серебро, это в лучшем случае, в худшем – какие-нибудь когти шанхайского барса на алюминиевой цепочке или вообще цветные бумажки, оправленные в оргстекло. Золото носят арабки, т. е. контингент социально ущербный, либо лавочницы – контингент ущербный идеологически. Приличная женщина не бренчит цепями, а пишет работу на тему «Фрагментарное воздействие чего-то там на чего-то там еще», а в свободное время если не медитирует вверх ногами, то как минимум берет уроки живописи, слева дерево, справа домик. Еще приличная женщина всегда в долгах и пишет роман. Хорошо, если она лесбиянка, но если ее просто муж бросил, тоже сойдет. Главное – медитация, креатив и когти повсеместно, главным образом на шее, там больше поместится.
Все это я знала отлично. Однако это не помешало мне купить великолепный золотой браслет буквально за бесценок. Я вообще люблю покупать украшения, я, кажется, уже говорила об этом. А не говорила, так скажу – люблю я это дело. Откуда это во мне – непонятно, откуда у девочки из нищей инженерской семьи твердое убеждение, что лучше одно платье и десять колец, чем десять платьев и одно кольцо… Родители мне ничего подобного не внушали, это точно.
За ужином я не удержалась и показала браслет Хайнцу. Хайнц застыл в недоумении и потребовал объяснений. Я слегка удивилась, вообще-то я купила его на свои деньги, но вечер был мирный, и я вдруг ни с того ни с сего рассказала ему про свою бабушку, которая в блокаду, зимой 42-го года, родила мою маму, и выжила сама, и сберегла дитя, и страшный путь в эвакуацию, неизвестно куда с грудным ребенком, и там, на краю света, среди чужих людей, и жилье ведь надо было снимать, а это деньги, и как-то кормиться, это тоже деньги, а если ребенок заболеет? Это ужас какие деньги.