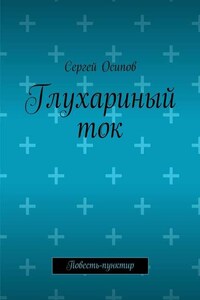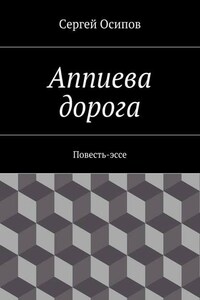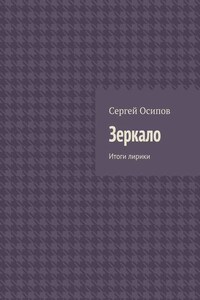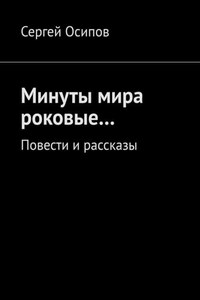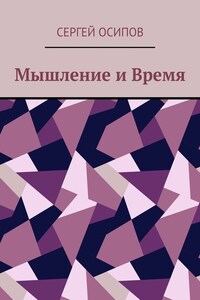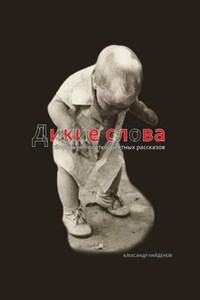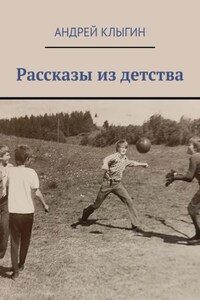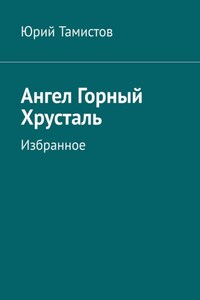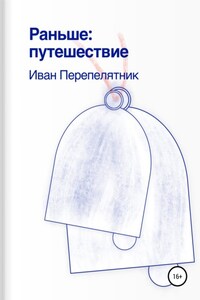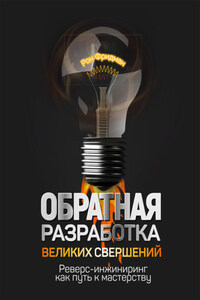Немцы вошли в село только на третьи сутки.
Сестра Фёдора, пешком добравшаяся накануне из города, говорила, что там грабежи и пожары, всё опустело и замерло. Последний эшелон с красноармейцами ушёл со станции. Многовековой инстинкт подсказывал русскому человеку, что лучше держаться ближе к лесу в лихую годину. В деревнях людей заметно прибавилось. Непривычное многолюдство, тревога ожидания, растерянность взрослых дразнили воображение мальчишек, и Фёдор вместе со всеми жадно прислушивался к разговорам стариков на площади. Бодрее других чувствовал себя дядька Матвей, навеселе – после отъезда сельсовета самогон гнали в каждой избе в открытую – качался он на своей «германской» деревяшке, звенел Георгиями на груди, горячился:
– На то он и город – ему милиция нужна, людей в порядке содержать. Ещё бы не было грабежей: сколько там народу случайного. И оттого, туда же – гордость. А на кой она нам сдалась? Каждый каждого знает: сегодня подрались, завтра поцелуемся.
– Вот немец тебя завтра поцелует! Развоевался бесстыдник. Зима на носу. Лучше иди домой, печь поправь. – Тётка Маланья, обычно легко справлявшаяся с мужем, была сегодня бессильна. То ли пьян он был как-то по особенному вдохновенно, то ли былую храбрость вернули ему георгиевские кресты, залежавшиеся в сундуке за годы советской власти (председатель видел в них религиозную пропаганду), но Матвей хотел наговориться всласть, не обращая внимания на приставания жены, философствовал:
– Хрен его знает, ихнего фюрера. Мало ли чего нам большевики набрехали. То-то их сегодня видно далеко! Но если он слишком задаваться будет, клепские мужики ему так наклепают… Поболее, чем в восемнадцатом. Нам ли немцев не бить? Не впервой!
Ребятня, воробышками рассевшаяся на жердях забора, жадно внимала забористой речи георгиевского кавалера, завороженно глядела на тускло мерцающие кресты на его груди. Особенно горда была Санька, внучка дяди Матвея: «Вот теперь-то мальчишки из класса перестанут задаваться. Главное – противный Федька! Все уши прожужжал про своего старшего брата Николая, который год назад в армию ушёл. Ещё бы! Учительница, Марья Петровна, Фединого брата всем в пример ставит. Его красноармейские письма на уроках вслух зачитывает. А про моего отца и сказать нечего. Пропал куда-то десять лет как. Дед – калека. Ну, теперь-то все увидят, какой он у меня боевой».
Фёдор смотрел на Саньку и не узнавал. Она и раньше нравилась ему: худая, стройная, коленки все в ссадинах, как у мальчишки, и только наметившаяся припухлость в бёдрах, там, где стройные длинные её ноги, чуть расходясь, образовывали лирообразный изгиб, выдавала в ней девочку. Ох уж как волновал Фёдора этот изгиб! И чуть заметный, полный сладкого таинства просвет, вызванный полудетской ещё худобой похожих на лианы ног Саньки, начинающийся от узлов колен и скрываемый дальше льняной, словно смеющейся, юбкой. Всё это пробуждало в Фёдоре что-то ему непонятное: дыхание перехватывало, когда он смотрел вслед Саньке, пока та гнала хворостиной бывшую свою корову в колхозное стадо. (Председатель по старой памяти изредка разрешал колхозникам на время разбирать коров по дворам, чтобы почистить, помыть, пожалеть, ибо понимал: трудно любить всё стадо, но своих бывших коров деревенские помнили, как и те – с готовностью шли хоть на денёк к своим бывшим хозяевам).
Сейчас же Фёдор увидел в Саньке нечто для себя новое. Не то физическое, что заставляло его и раньше, чтобы привлечь внимание к себе (Саньки, прежде всего!), прятаться на школьной перемене в стенном шкафу класса и выпрыгивать оттуда на начавшемся уроке с индейским криком: «За мной, я – Чапаев!», пугая учительницу и радуя класс; нет, теперь он поразился Санькиному взору, озорному и гордому, такому, какой, видимо, был у амазонок, про которых недавно рассказывала Марья Петровна на уроке по древней истории. «Надо бы позвать Саньку на рыбалку завтра. Вдруг согласится?»
– Немцы! – донёсся крик с южного края деревни, от моста через речку Ветлянку.
Гудевшая площадь на миг замерла и замолчала. Через секунду все сорвались и бросились по своим дворам. Последним уходил, хромая на деревяшке, поддерживаемый внучкой дядя Матвей. Федька с другими мальчишками побежали укрыться в школе, фасад которой выходил из глубины старинного сада на деревенскую площадь.
Послышался стрекот мотоциклетов, смешанный с громкими возгласами незнакомой речи. Федька, укрывшись на втором этаже в классной комнате, с замиранием сердца смотрел на площадь. Четыре мотоцикла с колясками выкатились из улицы, ведущей вниз к речке, и остановились у школьного сада. Следом, грозно урча, появился грузовик с тёмно-зелёным брезентовым тентом над кузовом. Откуда-то раздалась гортанная команда и из кузова грузовика выпрыгнули десятка полтора немецких солдат. К ним присоединились спешившиеся с мотоциклов. Вид у этой образовавшейся на площади группы был не грозный, но какой-то мальчишески озорной. Некоторые разминали, приседая, уставшие от сидения ноги, закуривали, беззлобно толкали друг друга, громко разговаривали. Фёдор, в отличие от старшего брата Николая, которого учительница Марья Петровна ставила всем в пример, учил в школе немецкий плохо и ничего не мог разобрать в речи спешившихся с мотоциклов и из грузовика врагов. Вновь прозвучала команда, и немцы построились. Военный в фуражке, видимо офицер, произнёс перед строем короткую речь, закончившуюся одобрительным смехом стоявших до тех пор во фрунт солдат. Одновременно с этим несколько неожиданным смехом строй рассыпался, и все двинулись в разные стороны. Двое направились через палисад к школьному входу. Фёдор замер. Он слышал, как другие мальчишки бросились по коридорам наутёк к выходам, ведущим в школьный огород. Фёдор, в котором любопытство перевесило страх, решил остаться. На всякий случай, он спрятался в том самом стенном шкафу, из которого выпрыгивал когда-то с возгласом: «Я – Чапаев!». Оставив небольшую щёлку в дверях, принялся ждать. Ждать пришлось недолго. Немцы вошли, озираясь, в школу и начали подниматься по лестнице. Их переговаривающиеся голоса становились всё слышнее и ближе. Фёдор, ничего не понимая из сказанного, был несколько поражён спокойной интонацией говоривших. «Будто к себе домой пришли. Гады!» Дверь распахнулась, и беспечные немцы вошли в тот класс, где Фёдор и прятался. Повернувшись спинами к нему, немцы стали показывать друг другу что-то, написанное мелом на доске, подошли к ней. Тут только Фёдор рассмотрел, что на классной доске цветными мелками был нанесён чертёж, иллюстрирующий доказательство теоремы Пифагора. «Да ведь точно! Вчера же геометрия на уроке была». Фёдор отчётливо вспомнил, как он давеча запутался в доказательстве и получил от нахмурившейся Марии Петровны заслуженную двойку.