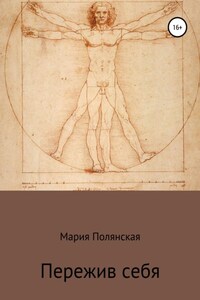Вере Николаевне и Сереже незабвенным посвящается
Вот не знаю, как вы, а я себя никогда красивой не считала.
Интересной, породистой, аристократкой – пожалуйста, не зря у меня в крохотной проходной комнатке, которую мама гордо именует гостиной, висят выцветшие, сделанные в сепии фотографии бабушки – с невероятным декольте, лебединой шеей и неправдоподобными бриллиантами. На портрете умное, тонкое, нездешнее лицо, и когда я на него смотрю, мне почти что не верится, что меня и эту недосягаемую в своей красоте, богатстве и благополучии женщину что-то связывает. Она умерла вскоре после революции, и мама выросла на руках ее подруги начала века, грубоватой, нещадно курящей, рыжеволосой еврейки Риммы Аркадьевны, женщины необыкновенной во всех смыслах – от происхождения из черты оседлости до многочисленных высокопоставленных любовников.
В детстве мама запрещала мне говорить о том, что моя бабушка – княгиня с интересной, звучной фамилией, домами по всей средней полосе России и своим местом в истории этой многострадальной страны. Я так и выросла, ни разу не поделившись с одноклассниками таким тяжелым, взрывоопасным знанием, а тем из них, кого мама изредка приглашала домой (если они, конечно, были того достойны всем своим внешним видом, а главное, поведением по отношению ко мне), я говорила, что это старые фотографии, которые достались нам еще с «довойны», как выражалась наша безграмотная соседка, норовившая поддержать нас в этом мире любой ценой своей навязчивой, но бескорыстной любовью.
Надо честно признаться, к нам приходили не часто. Да и кто будет дружить с девочкой, которая отмечена особой божьей меткой, как выражалась все та же соседка, а попросту говоря – горбом? Все дети, как дети, кто-то приговорен к очкам, кто-то пухл не по годам, но только я ношу на себе вечный знак отверженных – настоящий, огромный, непомерный горб. Его не снимешь и не положишь в портфель, его не спрячешь ни под какой одеждой, он тянет тебя к земле, он давит тебе на плечи, он выкручивает тебе руки, он разрастается словно колючий пырей в огороде, и он душит, душит, душит твою жизнь на корню…
Справедливости ради скажу, что так было не всегда. Лет до четырех я была милым воздушным ребенком, беззаботным и легким как бабочка. Помню не сама – из рассказов мамы – как мы с ней вдвоем гуляли по вечерней Москве, она – прелестная молодая женщина в ярком шелковом платье и чулках, и я – прелестный ребенок в очаровательных кружевах. На нас оборачиваются, нам завидуют. Мы встречаемся в ресторане с папой – значительным по виду и по должности мужчиной средних лет, женатым и на хорошем счету, мне покупают взбитые сливки, у меня всегда болит горло, и мороженого мне нельзя, и вот мне дают нечто, с виду напоминающее мороженое, и я давлюсь теплой, тающей во рту совсем иначе, сладкой массой, и плачу от обиды…
Это счастливые наведенные моей мамой воспоминания раннего детства, ощущение легкости бытия, чистоты, воздушности, гибкости и незамутненности сознания. Но потом в моей жизни наступает совершенно иная полоса – с началом войны отношения между родителями прерываются навсегда, мама оказывается наедине с этим странным новым миром, в которой у нее нет никого, кроме бесполезной меня и жесткой, но деятельной Риммы Аркадьевны, которая учит маму красить платочки едкой химической краской, менять платья из довоенной жизни на еду и ездить по окрестным деревням за мерзлой картошкой. Мы голодаем, мы распродаем остатки последней былой роскоши, папины подарки и бабушкины безделушки, а вполне возможно, и настоящие камни, цены которым мама не знает в силу своей женской беззаботности и юности. Время от времени Римма Аркадьевна выводит маму в свет – знакомит с офицерами, приезжающими на побывку в тыл. У них – настоящее довольствие, у них – вкусная еда и служебная машина, мама привозит мне гостинцы – фронтовую тушенку, масло, хлеб, плитки настоящего шоколада, и это праздник, но за него приходится платить – оставаться одной в темной сумрачном доме, где отапливается только кухня теплом огромной печки, у которой я сижу, прижавшись к ней вместо мамы всем телом. Уходя, мама запирает дверь на огромный тяжелый металлический стержень-засов, чтобы у нас не вынесли последнее, но однажды я просыпаюсь от неистового стука в дверь, к нам рвутся воры, увидевшие, что окна не горят, а значит, никого нет дома. Бухает дверь, ругаются мужики-мародеры, и я в ужасе открываю тяжелую крышку подпола, чтобы спрятаться там до прихода мамы, но в кромешной темноте оступаюсь и падаю плашмя в погреб…
Мама находит меня уже под утро, без сознания, в панике просит соседа на полуторке подбросить нас до больницы, но этой ночью произошло еще кое-что – в воздух взлетели склады с боеприпасами, и всем не до нас – мечутся обезумевшие люди, горят дома, воют сирены, и некому помочь – все машины нужны для того, чтобы тушить пожар и спасать то, что уцелело. Мама бежит со мной на руках к вездесущей Римме Аркадьевне, и та решает по-своему – оставить меня дома, пригласив знакомого врача. К вечеру приходит врач, становится ясно, что кости целы, небольшое сотрясение, но жить будет, и мама выдыхает чувство вины за то, что той ночью отчаянно пыталась устроить нашу общую нормальную жизнь.
С того дня все идет иначе. Я вскоре встаю на ноги, но тело мое больше никогда не будет мне послушно и в радость. Сначала проявится легкая косинка, вскоре она перерастает в кособокость, а потом окончательно на теле проступит горб – ужасный, уродливый, шершавый под туго натянутой кожей, тяжелый особой, свинцовой тяжестью, нарост. Уже потом, после войны, когда мама устроится на работу бухгалтером и чуть поднаберет жирка, она потащит меня по врачам, но все они разведут руками – возможное падение, вероятная душевная травма, страх и боль, голодное военное детство, да мало ли причин, до которых огромной, опустошенной стране не было никакого дела, и мама, оглушенная, одинокая, смирится с тем, что ничто уже не будет как прежде, – ни яркие платья, ни легкие чулки, ни очаровательная девчушка с мордашкой, измазанной сливками, все это останется там, опять же «довойны», как скажет вездесущая соседка, речь о которой еще впереди.
Ничто уже не было как прежде, – мама вышла на работу, а вскоре и я отправилась в школу, где в полной мере испытала на себе бремя изгоя – совсем не потому, что моя бабушка была княгиня, а сами мы из бывших, как думала в свое время Римма Аркадьевна, наставлявшая меня, как скрывать свое неправильное происхождение. Увы, детям, да и учителям, вполне хватило другой неправильности моей жизни – огромного горба, лишавшего меня даже невинных детских радостей в компании со сверстниками. Я рано почувствовала свое одиночество, и это было странно, ведь в школе было много детей, так или иначе пострадавших во время войны, эвакуированных из города, перенесших ранения, голод и холод. Но теперь, после всех этих ужасов, они стремились наверстать свое поруганное войной детство, отчаянно наверстывали упущенные годы и возможности, и только я, с вечным несмываемым пятном уродства, не могла участвовать в общем движении. Они проходили мимо – маршировали на праздниках, занимались физкультурой в черных сатиновых трусах, ходили на каток, влюблялись друг в друга, а я стояла на обочине жизни и глотала слезы. Меня даже некому было пожалеть кроме безграмотной соседки, тети Тани, простой русской женщины, вечно окруженной стаей голодных кошек, и всегда находившей для меня кусок черного хлеба, посыпанного сахаром. Это лакомство я запомнила на всю жизнь – слаще и желанней этого самодельного торта, приправленного любовью и жалостью, не было ничего и уже, наверное, не будет.