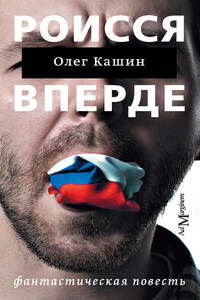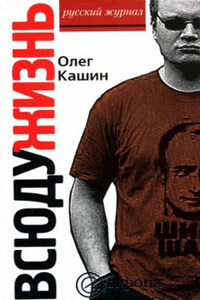Отдавая мне эту книгу, автор, известный [в прошлом] российский журналист Олег Кашин, сопроводил ее таким пояснением, что, если рассказанная им история покажется мне странной и неприемлемой, он просит не передавать рукопись спецслужбам (если подобные найдутся в современности, а они, конечно, легко найдутся и часто находятся), а тихо вернуть ему, сделав вид, что ничего не было. То есть – совсем ничего не случалось.
Текст действительно вызывает слишком много вопросов [может быть, чуть меньше, чем книги Масодова, но меж тем…]. Автор утверждает, что написал его по материалам нескольких личных бесед с Михаилом Горбачевым в период с сентября 2009 по ноябрь 2010 года; при этом доказать, что эти беседы действительно были и что Горбачев действительно все это рассказывал, Кашин не может. В своем втором письме он уточнил, что «к этому рассказу, безусловно, стоит относиться как фантазии», но при этом он «ручается, что ни слова лжи в книге нет». Если так, то я думаю, что не все из рассказанного Кашиным якобы со слов Горбачева стоит воспринимать буквально, но, очевидно, перед нами не просто псевдоисторическое фэнтези, а нечто более сложное. Постмодернистское визионерство – подлинный Горби-дрим.
История советского государства от начала до его крушения в 1991 году – вероятно, это самый неизученный период новейшего времени. Достоверные свидетельства о политической истории Советского Союза перемешаны с множеством сфальсифицированных документов, воспоминаний и заведомо недостоверных публикаций прессы. Миллионы людей прожили под властью коммунистов и ничего толком не поняли. Умерли – и тоже ничего не поняли. Власть, которая пришла из ниоткуда и исчезла в никуда. Ее декларируемые цели, очевидно, сильно отличались от подлинных, но какими именно были подлинные – этого не знает никто. Может быть, кроме Сорокина. И, может быть – Кашина.
Очевиднее всего это становится, когда дело касается отношений большевистского государства со странами Запада. Эти отношения вызывают слишком много вопросов, а несоответствие риторики и реальности иногда делается просто неприличным. Кто вырос на «Золотом теленке», тот помнит, очевидно, «коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью “Ответ Керзону”», – казалось бы, все ясно, советская пропаганда стремилась доносить антибританскую повестку дня до всех слоев общества. Но этот спичечный коробок с кукишем начинает выглядеть совсем иначе, если знать, что именно такие (именно с этой этикеткой) спички были первым советским товаром, экспортированным в Соединенное Королевство, то есть Британия платила за то, чтобы на спичках был нарисован адресованный Керзону кукиш. Как, почему?
Не проще обстоят дела с внутриполитической историей СССР, которая при ближайшем рассмотрении оказывается последовательностью вообще не связанных между собой периодов, каждый из которых заканчивался так же внезапно, как и начинался. Западные советологи тридцать-сорок лет назад писали аналитические записки на основании расстановки членов политбюро на Мавзолее – это смешно, но за эти годы никто не придумал более адекватного способа анализировать советскую иерархию, чем даже такая алхимия. Может быть, все-таки существуют какие-то другие способы?
Наконец, перестройка. Мы до сих пор не знаем ее реальных целей, блуждая между официальной (модернизировать советскую систему) и конспирологической (развалить СССР, чтобы «тусоваться красиво») версиями. Было ли в действительности предопределено крушение советского государства? Если было, то почему и зачем? Вопрос повисает в воздухе. «Не знаем».
Мы не знаем ничего, и разве не естественно, что у нас нет и ответа на самый незначительный на таком фоне вопрос – разговаривал ли Горбачев с Кашиным, рассказывал ли он ему все эти истории про Сталина, Суслова и Громыко. Горбачев не ответит нам на этот вопрос, не ответит и Кашин, но даже без прямого ответа их история, по крайней мере, заслуживает внимания. И именно поэтому я отдаю ее не спецслужбам, как боялся автор, а в печать, что происходит в моем исполнении со всем, что – по хорошему – никогда не стоило бы публиковать.
Горби-дрим. Так говорил Горбачев
– Что, опять меня хоронят? – в телефоне знакомый голос, и ладно бы просто знакомый, но это ведь как-то по-другому называется, и даже если сказать, что этот голос родной, все равно будет неточно. Теперь кажется, что в детстве из этого голоса состоял весь внешний мир, как в войну из голоса Левитана. С моих пяти до одиннадцати лет – этим ставропольским говорком разговаривала со мной даже не власть, Бог бы с ней, а как минимум история; мы все тогда жили в истории, и я только потом, взрослым, понял, что это была она. И вот мои отношения с историей – странные, глупые. В прошлом году кто-то сказал, что он умер, я позвонил, ожидая чужого скорбного голоса, а ответил он сам, выругался матом (вот просто представьте, как история может ругаться матом), я обрадовался, что-то еще ему сказал, попрощались, но, наверное, кто-то очень хотел, чтобы он умер – через сколько-то месяцев о его смерти сообщили еще раз, потом еще раз, потом еще, и каждый раз я звонил, и каждый раз в телефоне «тот» голос, и каждый раз – ну здоровья вам, извините, обнимаю; мне было важно сказать истории именно «обнимаю», потому что когда еще и при каких обстоятельствах получится обнять историю.
Тот раз был, кажется, седьмой за два года. Я снова звоню ему, и он уже вместо «здрасьте» – «Что, опять меня хоронят?», и я что-то говорю в ответ, а он, как в детстве на съезде народных депутатов, перебивает – «Ладно, давай адрес». Адрес, какой адрес? – но я уже диктую номер своей квартиры, потом кладу трубку, ставлю чай, и потом звонок в дверь. История пришла. «Ну здравствуй».
Тот первый наш чай – сейчас я уже не вспомню, о чем мы тогда говорили. Важно, наверное, что я ему понравился, и что мы договорились, что он зайдет ко мне потом еще раз. К концу того месяца он приходил уже без звонка, просто дергал дверь, и я шел открывать – наверное, в жизни каждого человека однажды появляется одинокий старик, который вот так приходит в гости, и я, в общем, был рад, что моим таким стариком оказался именно он. Мы садились друг напротив друга, он спрашивал, что у меня нового, я рассказывал какую-нибудь сплетню, он вздыхал – «Ну ничего себе», и я уже знал, что сейчас он опять что-нибудь вспомнит.
В детстве совсем далеком, когда история разговаривала какими-то другими, я их не помню, голосами, или даже не разговаривала вообще (сейчас я больше склоняюсь к этой версии), то есть до него, по телевизору в новостях диктор читал прогноз погоды на фоне не географической карты, а просто картинки – круг, разделенный на четыре сектора, в одном дождь, в другом снег, в третьем туча, в четвертом солнце. Я любил подбегать к телевизору и веселить родителей, показывая на каждый сектор – Калининград, Калининград, Калининград, Ставрополь. Сколько мне было – два года, или три, но я уже точно знал, что плохая погода – всегда в Калининграде, моем родном городе, который в те времена на настоящей карте пропадал в тени «республик Советской Прибалтики»; у советского обывателя никакого конкретного представления о Калининграде не было, и я, кажется, с рождения привык, что люди из других городов, спрашивающие при родителях о моем родном городе, при слове «Калининград» в лучшем случае интересовались, часто ли мы бываем в Москве – такое же имя носил тогда маленький город совсем рядом с Москвой, потом его переименуют в честь космического конструктора Сергея Королева. В общем, мой Калининград – город, в котором никто не был; город, в котором всегда плохая погода.