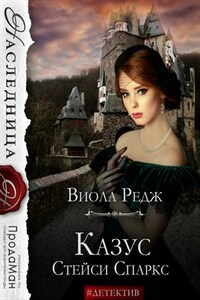1
Говорю сразу: я не боюсь ни Бога, ни чёрта. Пока я жив – меня не запугаешь, не согнёшь, не сломишь. Ну, а после смерти…
Вот то-то и оно: после смерти человек становится беспомощным, беззащитным – любая сволочь может облить труп его грязью и сплясать на костях его похабный топтательный танец буги-вуги. Это тем более вероятно, если у человека – как это случилось со мной – ни единой родной души рядом. Один как перст – это про меня. Точнее не скажешь.
При жизни стать совсем свободным и абсолютно бесстрашным вовсе ведь не трудно. И не надо для этого сходить с ума, колоться всякой дрянью или постоянно накачивать себя спиртной отравой. Правда, сам я долгие годы прибегал именно к такому лёгкому и примитивному способу обретения свободы. Нет, крыша у меня, слава Богу, стояла и стоит на месте, наркота мне всегда была не по карману, да и изначально как-то, подспудно не тянуло меня к этой заморской мерзости. А вот змеичишко зелёный укусил таки меня крепенько, отравил-размягчил разум сладким ядом-дурманом, обвил жёстко своим цепким мускулистым хвостом.
Да, свобода была. Вернее – ощущение свободы, иллюзия. Бывало заглотишь с утра стакан водяры, добавишь к обеду второй, да вечером ещё два-три и – сам чёрт тебе не брат и Бог не товарищ. Однако ж…
Когда я очнулся полностью и совсем, я не имел уже молодости, кисти левой руки, семьи, того, что называют репутацией, и хотя бы мало-мальски обустроенного быта. Зато я имел: довольно измождённое и в сорок с небольшим уже морщинистое лицо, усталый равнодушный взгляд, раннюю седину, расхристанную нервную систему, сотрясение мозга, ослабленное зрение, гастрит, колит, цистит и простатит, подозрение на цирроз печени плюс хронический воспалецит души, не говоря уже об остеохондрозе, сколиозе, перхоти и похмельной трясучке рук…
Однажды утром я поглядел на себя – такого – как бы со стороны, и в мозг мой воспалённый воткнулась ядовитая игла-мысль: так жить нельзя! Станислав Говорухин про всю страну и на всю страну нашу гибнущую это прокричал, я же про себя и себе только, но – мысль была не менее оглушительной. Я вдруг понял, что я – не живу. Я даже – не существую. Я просто-напросто – прозябаю. Я превратился в амёбу, в туфельку одноклеточную, плавающую в похмельно-рвотном бульоне бытия.
Страшное осознание!
Помню, когда оно мерцнуло во мне, в моём опухшем сознании, как раз в грязное окно моё пробился мощный луч апрельского солнца. Он, этот луч, пробил неуют моей запущенной пыльной комнаты, достал меня в нише, в моём спальном углу, заставил зажмуриться сильнее, сморщиться и очнуться от тяжкого тёмного похмельного сна. Я вдруг по-детски расплылся в улыбке, потянулся – до хруста, до стона в суставах, – мотнул головой, словно стряхивая пыль с мозгов, и неожиданно сказал сам себе: хватит! Так жить нельзя!
Да, именно с этого мощного апрельского солнечного луча и началась в моём уставшем организме остановительная реакция, начался процесс пробуждения, началось протрезвление. Луч тут же растворился-исчез, но мгновение уже было. Я протёр энергично кулаком сначала один, потом другой глаз, нашарил на полу, рядом с матрасом, очки с треснувшим правым стёклышком, нацепил на нос, осмотрелся. Вид моего жилища меня ужаснул. Я словно впервые увидел всё это.
Комната была почти абсолютно пуста. В нише, прямо на полу, лежал надувной резиновый матрас, на котором я и спал-плавал в пьяном бреду, обычно не раздеваясь. На одной стене, справа от окна, висело зеркало в пыльной бахроме и паутине трещин: бутылкой как-то запустил в него, запамятовав присловье, что на зеркало-то неча пенять, коли рожа пьяна. На противоположной стене, в том месте, где когда-то стоял шифоньер, были всобачены в кирпичи несколько дюбелей, на них висели две рубашки, штаны запасные, штопаный пиджак повседневный и вполне ещё приличный, из последних сил сохраняемый мною парадно-выходной костюм, прикрытый газетой. Я всегда помнил: если пропью и костюм этот, то совершу последний шажок от гомо сапиенса, гомо нормалиса к гомо скотинису, попросту говоря, – к свинтусу.
Ещё в углу у окна возвышались на газетке две стопки книг, томов пятьдесят – всё, что осталось от приличной некогда домашней библиотеки. На книгах лежали четыре фотоальбома – фотолетопись моей жизни, а на них стоял бронзовый бюстик Сергея Есенина, который каким-то чудом ещё сохранялся, не желал продаваться. Рядом с книгами стояла самая драгоценно-бесценная вещь в квартире – пишущая машинка «Унис» в чёрном кожаном футляре. Я знал: даже когда я буду умирать от голода и жажды, эта машинка портативная – знак, символ, талисман моей литературной жизни – останется в неприкосновенности.
В другом углу прямо на полу стоял старый ящик чёрно-белого «Рекорда», который, несмотря на патриарший возраст, ещё чего-то показывал и бормотал. Да всё такую муть, муру и лажу, что по трезвянке и включать его не хочется. На полу же стояло ещё одно воспоминание о былой роскоши – перебинтованный синей изолентой телефон. На стене висел такой же раздолбанный радиодинамик. Ну и, наконец, несомненную и уникальную ценность имели две картины на стенах кисти талантливого барановского художника Дмитрия Шилова. Одна – мой портрет во весь рост: я сижу на стуле, нога на ногу, увечная рука перекинута за спинку, не видна, в правой – раскрытая книга, по коротким строчкам понятно, что это стихи. Другая картина – пейзаж: синие горы, полоска голубая Байкала и прозрачное сибирское небо.
Вот и – всё. В комнате моей более ничего, кроме пыли-грязи по углам да двух-трёх пустых бутылок, в то апрельское солнечное утро я не обнаружил.
В прихожей у меня висели, во встроенном, моими руками сделанном шкафу, замызганный плащишко и пальтецо на рыбьем меху, носимое весной, зимой и осенью, стояли туфли да стоптанные до полнейшего неприличия зимние сапоги. На кухне скучала электроплита «Лысьва», которая служила мне и печью, и обеденным столом, на ней – помятый чайник. Имелись ещё из имущества колченогая табуретка с железными ножками, пожелтевшая раковина-мойка, в ней – пара грязных тарелок, кастрюлька, сковорода, ложки-вилки. Всё это время от времени ополаскивалось. Стаканы же гранёные в количестве двух штук я никогда особо и не мыл: чего же из-под водки мыть-полоскать – она сама дезинфицирует. Разве что из-под портвейна или из-под одеколона когда сполоснёшь посудину с утрешка, дабы не так отвратно похмельную порцию заглатывать было.
Для полноты картины по стенам торчали уцелевшие шурупы и чернели дырки – следы исчезнувших шкафов, полок и всяких кухонных наборов, до которых жена моя покойница, Елена Григорьевна, пребольшущая была любительница.