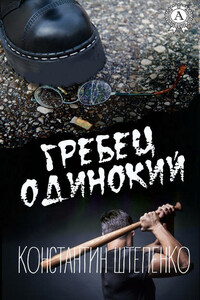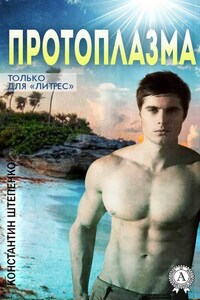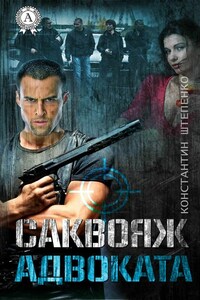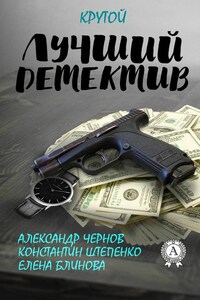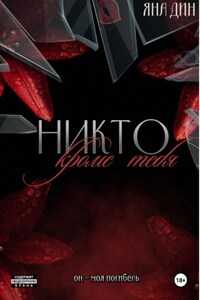Вагон плавно покачивался из стороны в сторону, и если бы не с детства знакомое, вбитое в память четырехтактное перестукивание колес, то могло показаться, что это небольшой катер, отчаливая от причала, рыскает носом в портовой толчее волн. Так-Так, так-так – это заученная с младых ногтей формула нового, неизведанного.
Так-Так, так-так – это путешествие на море!
Так-Так, так-так – это поездка к родственникам в деревню, где виноград размером со сливу, и нора знакомого суслика на краю огорода.
Так-Так, так-так – первая самостоятельная поездка из Нижнедонска в Салехард – стройотряд после первого курса.
Так-Так, так-так – бритоголовая, пьяная безнадега армейского вагона, увозящего призывников к месту службы…
Самолет проносится по небу, не оставляя и следа в душе пассажира, не давая ему разнежится в тесном неудобном кресле, не оставляя времени на основательные с расстановкой раздумья, на которые в обыденной текучке жизни просто не остается времени.
Но сегодня Шатолин променял бы эту возможность остаться наедине с самим собой, да еще в мягком вагоне (мест в купейном на скорый уже не было), на все что угодно, не то что на зал ожидания в аэропорту с отвратительным кофе по цене Хеннеси, перегруженной камерой хранения и вечно закрытым на уборку туалетом, а даже на самое страшное, что было даже страшнее зубоврачебного кабинета – интим со стапятидесятикилограммовой соседкой в ее квартире напротив, пропахшей лекарствами и кошками. Любая мысль, рождавшаяся в его мозгу, была сущей пыткой, а научиться медитировать, полностью отвлекаясь от реальности, он так и не удосужился, так как ввиду природного скептицизма считал всех приверженцев йоги и прочей восточной дзен-Дао-галиматьи либо сумасшедшими, либо шарлатанами.
Обрушившийся на него как лавина шумный суетливый сосед-попутчик, подсевший в Ряжске, казался сегодня ангелом, посланным милостивым Господом ему во спасение. Хотя ангел и предстал перед ним в образе старого еврея в мокром кожаном плаще с огромным баулом, который был похож на хомяка с обвисшими щеками.
– Да-да, вы не ошиблись! Я волею судеб еврей, и совсем не молодой, а скорее даже старый! – Провозгласил он с порога скрипучим Дуремаровским тенорком, протягивая Шатолину влажную узловатую куриную лапку. – Йерахмиэль Шмаёник. Но для удобства можете называть меня просто Марковичем. Надеюсь, вы не тайный юдофоб?
Маркович, развеселившись собственной шуткой, загоготал испуганным гусем, что видимо по его шкале соответствовало звонкому заразительному смеху. Шатолин залился румянцем, хотя ничего крамольного в его мыслях не припоминалось. Это давал о себе знать впитанный из Одесского воздуха во время поездок к отцу пресловутый «еврейский вопрос» семидесятых-восьмидесятых, который, так и не найдя себе ответа, сошел на нет вместе с его носителями, уехавшими на историческую родину. Кроме того, любое касательство его национальности вызывало в Шатолине бурю эмоций и легкое раздвоение личности. Его дед – бывший партийно-хозяйственный функционер был по долгу службы и по личному убеждению ярым антисемитом. И так уж получилось, что Владимир до поступления в университет жил с ним, спрятав в самые отдаленные уголки памяти воспоминания о том коротком периоде своего детства, который он провел в семье своей матери в Одессе, где в огромной квартире с высокими потолками было всегда полно гостей, говоривших на малопонятном ему языке, похожем на немецкий.
– Шатолин. – Выдавил он из себя, все еще стыдясь неизвестно чего.
– Как же, Владимир Алексеевич! – Маркович энергично встряхнул удивленного Шатолина за руку. – Грешен, каюсь! Любопытен без меры – сунул нос к проводнице в ее кляссер, подглядел, на чье имя выписан билетик.
– Ничего. Присаживайтесь. – Растерянно пробубнил Шатолин и сел на свою полку каменным истуканом.
Маркович снял свой плащ, встряхнул его и повесил на вешалку у двери. Одет он был в добротную с иголочки тройку и без плаща выглядел очень представительно – ну прямо Генри Киссинджер на дебатах в совете безопасности. Он раскрыл свой неподъемный баул и стал выкладывать из него на столик какие-то свертки, кулечки, баночки.
– А это, Владимир Алексеевич, – сказал он, с загадочным видом роясь в недрах баула, – лекарство, которому равных нет в лечении душевного дискомфорта и приступов самобичевания, какими вы в настоящий момент страдаете.
На стол была торжественно водружена бутылка армянского коньяка, будто генерал в парадном мундире, увешанном наградами, которого сопровождал почетный эскорт из двух массивных чарок, важно просвечивающих серебром сквозь благородную чернь.
* * *
Дело в том, что Владимир Алексеевич Шатолин действительно находился не в лучшей форме, стремительно входя в очередной кризисный период. Такие психологические «климаксы» случались у него с завидной регулярностью, и раз в три-четыре года он на месяц выпадал из жизни, забиваясь в какой-нибудь медвежий угол, где никто не мог его потревожить. Нынешний кризис грозил стать наиболее острым и продолжительным, потому что он совпал с возрастным рубежом, когда мужчина понимает, что молодость безвозвратно ушла, и отражение в зеркале начинает видеться таким, каким его видят окружающие. Когда мужчина вдруг понимает, что как мачо он выходит в тираж, и молодых женщин уже не привлекает начинающая редеть шевелюра, легкая отечность под глазами и неотвратимо растущее брюшко, и он начинает искать источники вдохновения в ощущении собственной значимости на фоне тех высот, которых ему удалось достичь в жизни – самоутверждается в семье, на работе, в бизнесе.
Вот тут как раз у Шатолина возникала пробуксовка. Он был человеком здравомыслящим, и вследствие этого скептичным до цинизма, а его склонность к самокритике, вернее к трезвой оценке себя как личности во всех ее проявлениях, рождала безысходность. Его опыты самовоспитания в молодости не дали результатов, и с годами он полностью отказался от попыток переделать себя. Но изменить что-то в своей жизни не переделав себя, тоже было проблематично. Счастливы те люди, которые довольны собой даже в низости и беспутстве, чуждые угрызениям совести и пытке самоанализом! Они легко идут по жизни, не заботясь о том, на что наступают, потому что сами искренне считают себя центром мирозданья, и никакое разоблачение не сможет их в этом разубедить.
Сев в поезд и пригревшись в протопленном вагоне, Шатолин в очередной раз стал подбивать итоги своего жизненного пути. Итоги были неутешительны. Он был два раза женат, но оба раза бесславно развелся, потому что не смог соответствовать тем надеждам, которые возлагали на него жены. Будучи большим ценителем женской красоты, он был очень разборчив в своих амурных приключениях. Его новая пассия должна была быть лучшей в доступном окружении, но даже не это было главным. Она не должна была быть просто красивой, но глупой куклой. Шатолин искал в женщине изюминку, которая отличала бы ее от всех окружающих. Он землю рыл, добиваясь благосклонности своей избранницы, он создавал вокруг нее праздник, покорял фонтаном импровизаций, и практически всегда добивался своего. Но потом наступало похмелье, интерес к покоренной красавице быстро исчезал, и только что начавшиеся отношения еще агонизировали какое-то время, но скоро тихо сходили на нет. Две его женитьбы были полнометражной копией коротких проходных романов – отличие было только в том, что агония началась лишь после посещения ЗАГСа.