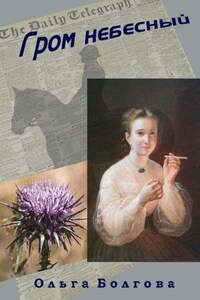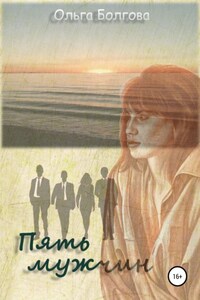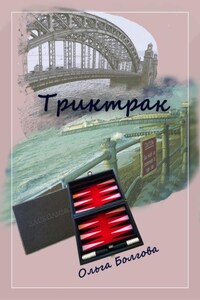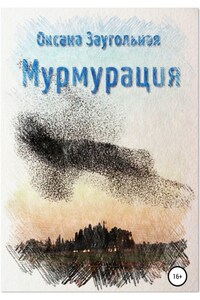Нортумберленд, Англия, июль 1920 года
Хорошо утоптанная тропа, что петляла меж ежевичных кустов, сделала поворот и потянулась вдоль полуразрушенной, щедро укутанной мхом стены. Решив сделать привал, я остановилась, поставила саквояж и из любопытства перегнулась через стену, обнаружив, что с другой стороны она обрывается склоном, круто уходящим вниз, туда, где журчали невидимые воды то ли речки, то ли ручья. От неожиданности по спине пробежал холодок, и слегка закружилась голова. Правда, последнее случилось, скорее, от усталости и голода – эти два чувства стали уже привычными. Но солнце палило во всю мощь своей июльской беспечности, стрекоза приземлилась рядом, посидела, подрагивая прозрачными хрустящими крыльями и взмыла в полете; стайка желтых бабочек зависла в желтом пируэте, и холодок прошел, уступив место струям горячего пота.
– Andiamo, andiamo… – хрипло пропела я и закашлялась. Моцартовская песнь коварного соблазнителя отчего-то с самого утра упорно крутилась в голове, словно увлекала в неизвестность чужой страны. А ведь бедняжке Церлине повезло, что у Жуана оказалась столь верная и сумасшедшая возлюбленная Эльвира, которая спасла ее от бездушного обольстителя. Впрочем, о чем это я? Вновь о том, что осталось там, позади. Хотелось пить, но стеклянная фляга, которую я наполнила в деревенском пабе, была почти пуста, удалось вытрясти из нее лишь жалкие капли, слегка смочив губы. Я сняла шляпку, кое-как расчесала слипшиеся от пота волосы, села на траву, прижавшись спиной к нагретым солнцем камням, закрыла лицо платком, и.… уснула.
Проснулась от ужаса, вдруг навалившегося душащим полотном. Открыла глаза, сдёрнула платок и наткнулась на чужой взгляд. Яркие голубые глаза смотрели на меня в упор. Вскочила, чуть не упала и была подхвачена и поставлена на место сильными руками молодого мужчины. Он тотчас отпустил меня, но, отступив на полшага назад, продолжил бесцеремонно разглядывать, и мне ничего не оставалось, как ответить ему тем же самым. Зрелище оказалось более чем приятным – к голубым глазам и вьющимся темным волосам прилагались неплохо продуманные создателем черты лица, внушительный рост, широкие плечи и хорошо сшитый полотняный костюм.
– Простите, если напугал вас, – наконец произнес молодой человек. – Но вы так красиво спали, не мог оторваться от столь захватывающего зрелища. Словно лесная фея.
– Напугали, – подтвердила я и осторожно добавила: – Хотя, не следовало засыпать вот так, среди леса, но я немного устала.
– Идете пешком издалека? Гм… полагаю, очень издалека.
– Это заметно? – риторически спросила я.
– Да, но довольно мило. Вы… полька?
– Я из России, русская, – призналась я.
– О! Там в России все вверх тормашками. Давно ли вы здесь? Заблудились? Сбились с пути?
Я замешкалась с ответом, не зная, какой из вопросов выбрать. Но попадание было точным – все вверх тормашками, заблудилась, сбилась с пути. У меня просто-напросто не было никакого пути, а лишь тропа, ведущая… куда? Я выбрала отрицательный ответ.
– Нет, не заблудилась. Мне очень подробно объяснили в деревне: идти по тропе, никуда не сворачивая.
– По этой тропе? – он махнул рукой куда-то вдоль стены.
– Здесь есть другая? – осведомилась я.
– По-видимому, есть. Но эта ведет в Хорсли.
– Как раз туда я и направляюсь.
– В Хорсли? Вот как? И что за нужда ведет вас туда?
– Работа, – просто ответила я. – Мне нужна работа. Мне сказали, что там, в доме, требуется прислуга.
– Прислуга? Ах, вот оно что… – в голосе его прозвучало разочарование или что-то иное?
– Да, прислуга.
Мне было нечего стыдиться, а горечь я уже пережила. Почти пережила. Он был мне незнаком, и в любом случае, наши пути разойдутся через несколько мгновений. Впрочем, через несколько мгновений я обнаружила, что ошибаюсь.
Он водрузил на голову невесть откуда взявшуюся франтоватую, слегка помятую шляпу и приветственно склонил голову.
– Могу проводить вас в Хорсли, если не возражаете.
– Правда? Вам по пути?
– Да, разумеется. Охотно провожу вас. Позвольте представиться… Джек… Смит.
Он улыбнулся, ожидая моего ответа.
– Анна… Кузнецова.
– Ан-на, – повторил Джек Смит. – Так называют девушек повсюду. Что ж, идемте, Ан-на… Давайте ваш саквояж.
– Нет, нет, – запротестовала я, – он очень легкий.
– Боитесь? – заулыбался он, как будто в опасениях содержалось что-то смешное. – Уверяю вас, меня вовсе не нужно бояться.
Странно, но, когда человек уверяет, что его не нужно бояться, это вызывает противоположные ощущения. Хотя Джек Смит весьма располагал к себе и манерой общения и совершенно очаровательной улыбкой с ямочками на щеках. Он не стал настаивать, предоставив мне возможность самой тащить саквояж, и двинулся вперед размашистым шагом. Впрочем, вскоре убавил скорость и размашистость, поравнялся со мной и сообщил тоном заправского учителя истории:
– Стена, вдоль которой мы идем, сооружена римским императором Адрианом и названа в его честь. Слышали о таком?
– Слышала… да, верно, в гимназии на уроках истории.
– Взгляните-ка на тот бук, – между тем продолжал Смит, указывая на стоящее особняком удивительное дерево. Его мощный короткий остов словно пережил какую-то катастрофу – взрыв, внезапно распавшись на несколько стволов, которые переплелись меж собой самым причудливым образом. Лиственная крона покрывала его нежно-зеленым облаком, совершенно не вяжущимся с грубой затейливостью основы.
– В России растут буки? – спрашивал меж тем Джек Смит с интересом ботаника-лесовода.
– Буки… вероятно, только на юге. На Кавказе или в Крыму, может быть, – неуверенно сказала я, не будучи сильна в ботанике.
– В России очень холодно… бррр.
Он изобразил дрожь от холода и белозубо улыбнулся.
Холод… Да, особенно в этот последний год, когда отец увез меня из Петрограда в еще более холодный Мурманск, а однажды февральским утром ушел и пропал на несколько дней. В городе стреляли, я ждала его, не зная, что делать и куда идти. На третий день пришел наш давний знакомый, капитан Гурский, всполошенный, в цивильном пальто поверх мундира, приказал срочно собираться, потому что через несколько часов в море выходит пароход «Ломоносов», забирая на борт военных, а отец уже там, на борту – не смог прийти за мной по причине ранения. «Ранение неопасное, – успокоил меня Гурский, – но нужно спешить». Я взяла с собой чемодан и саквояж, уложив одежду, белье и мамины драгоценности. По пути через город мы столкнулись с мародерами. Капитан пальнул в воздух, мародеры бросились врассыпную. Мы поспешили в порт, а чемодан с вещами так и остался лежать в снегу на дороге.
События тех дней, словно мутный поток, что подхватил, потащил за собой, унес, выбросил на чужой берег и схлынул, исчезнув в водах Атлантики. Вбегая по трапу «Ломоносова» с одной мыслью о ранении отца, я не знала, что пароход направляется в Англию, не понимала, что покидаю родину, возможно, навсегда. Гурский сказал полуправду – рана отца вовсе не была легкой, он потерял много крови. При выходе из Мурманска пароход обстреляли, ранив капитана. Я помогала судовому врачу ухаживать за отцом и капитаном, оказавшись едва ли не единственной женщиной на борту. Капитан вскоре оправился, а отец – нет. Его похоронили в море. В норвежском Хоннигсвене на «Ломоносов» перегрузили офицеров с переполненного парохода «Козьма Минин», который шел из Архангельска. Гурский явился в мою каюту, сказав, что уступил место старшим по званию. Мне он даже не нравился, но рядом с ним было спокойнее. Все произошло само собой – прошлое осталось за морем, а будущее было смутно, как океан в тумане. Я рассталась с девичеством между прочим, забыв о мечтаниях, романах и музыке. То, что представлялось полетом в небеса, произошло буднично, словно я выпила пресловутый стакан воды.