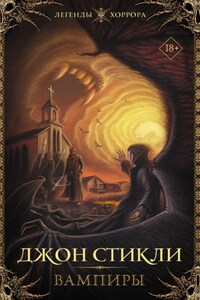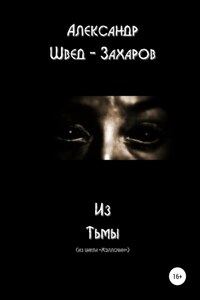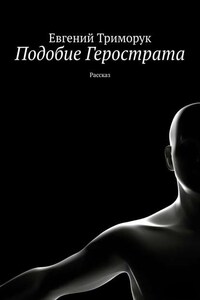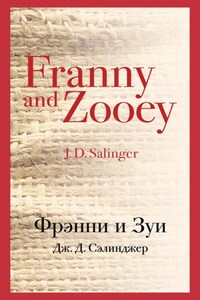МЫ СУДОРОЖНО ПРОДВИГАЕМСЯ вперед. Мои братья – потому что у них общая лобная доля мозга, а я – просто потому, что нет иного способа продолжать движение.
У них три глотки и три тела, три независимых сознания и множество чувств, но всего один голос. У них даже есть любовница, Доди Кутс, которая спит в ногах их широченной двуспальной кровати и тыльная сторона кисти которой трется о колено Себастьяна. Ее дыхание отдает бурбоном и шоколадом, а в уголках рта застряло несколько волосков.
Теперь она делает для них то, что всегда делал я – опорожняет утки, кормит с ложечки отдельно каждый рот, помогает им надеть свежие пижамы, подает губки для мытья и помогает чистить зубы, которые, насколько мне видно, остаются белыми и ухоженными.
Они дремлют, и пот стекает с морщин на их громадном лбу, а потом шепотом пересказывают мне свои фантазии. Каждый рот издает свои звуки, пытаясь выразить свою особую идею, с индивидуальным, ограниченным набором эмоций. Себастьян полон злобы, Джонас – сожаления, а Коул всегда говорит о любви, и только о ней, какие бы отвратительные слова он при этом не употреблял. Они убили шестилетнего ребенка. По крайней мере, так сказали. Они не очень ясно об этом говорят. Иногда рассказывают так, словно убили его, а в другой раз – будто только нашли. Я не обнаружил ни тела, ни доказательств, ни сообщений о пропавшем ребенке, однако ночи напролет слушал, как они бормочут об этом, а Коул до сих пор говорит о любви.
Это случилось раньше. Однажды я нашел в болоте мертвого мальчика.
Мои братья общаются лицом к лицу, при этом нужды шевелить губами у них нет. Они беседуют внутри единой огромной лысой головы, где одновременно живут разные сознания. Молча они ссорятся, спорят и приходят к согласию, лежа в кровати с раздутыми ноздрями и порой хлопая друг друга по рукам. С рождения они смотрят друг другу в глаза, объединенные общей кровеносной системой и курсирующими в ней нейромедиаторами. У них всего один эпифиз, известный также как шишковидная железа, который наши предки, верившие в его мистические свойства, называли «третьим глазом».
Из-за этого их гигантский мозг вырабатывает слишком мало мелатонина, который регулирует ежедневные ритмы тела, и, прежде всего, циркадные, определяющие цикл сна и бодрствования. Все, что доступно их взору, искажено этой бесконечной близостью – физической и духовной. Их ноздри разделяет всего несколько дюймов, они вдыхают и выдыхают один и тот же спертый воздух, не видя почти ничего, кроме гримас на своих лицах. Словно слепые дети, они не в состоянии отличить утро от полночи.
Когда они говорят со мной, то часто ведут речь от первого лица, и порой мне трудно отличить, кто именно говорит и все ли они чувствуют одно и то же.
Доди посапывает во сне. Она вздыхает и мурчит, растянувшись так, что лунный свет отражается от ее бедра. Об оконное стекло тихо шуршат сухие листья. Она придвигается к моим братьям и пробует всех по очереди, потирая огромные выпуклые изгибы лба, проходясь по каждому из трех хилых корявых тел. Костяшки пальцев упираются в изголовье, а четыре пары ног сплетаются и пинаются во сне.
Я стараюсь не смотреть туда и в конце концов начинаю пялиться в стену. Опускающаяся ниже луна высвечивает их скорчившиеся тени, и я вижу, какие фантастические вещи она творит каждым мускулом, всеми своими податливыми изгибами, пока братья неразборчиво бормочут ее имя. Имя, полное горечи, сомнений и ощущения чуда.
Ее мать, Вельма Кутс, отдала мне Доди в уплату за то, что я выгнал глистов из двух коров и починил крышу лачуги, которая за много лет насквозь прогнила от сырости и дождя и покрылась лишайником. Мы с братьями – самые богатые люди в нашем городке Кингдом Кам [1], округ Поттс, и все равно колдунья сочла нужным мне отплатить. Я знаю, что цена не имела для нее значения. Просто услуга за услугу.
Доди села в мой пикап, положив на колени охапку грязной одежды, и не промолвила ни слова. Я даже не был уверен, что она может говорить, пока однажды она меня не разбудила, когда между всех этих ног, зажатая словно в клетке между их костей, скрытая под всей этой плотью, она завыла: «Господи, помоги мне сейчас и в час смерти моей, чертов ублюдок!»
Такое вряд ли кому-то захочется услышать. Другие мужчины могли бы начать спорить с Вельмой Кутс или отказать ей, поэтому она совершила сделку именно со мной, отдав Доди, и поэтому я выгнал глистов именно из ее коров. Выпятив подбородок, колдунья стояла в ожидании, что произойдет дальше, в своем дворе под эльмом и соснами.
Я тоже ждал. Мой отец покончил с собой, потому что не сумел смириться с тем, как живут в наших глухих болотных топях, хотя сам никогда не покидал округ Поттс. Он боролся с традициями своего прошлого и заплатил за это.
Я мотаю головой и перестаю думать о Доди. Неважно, что мне пришлось сделать, но как мой отец я не кончу.
МОЖЕТ, У НАС есть еще и сестра, но уверенности у меня нет. Наши родители никогда о ней не рассказывали, но с левой стороны на моей грудной клетке есть странные вмятины, похожие на женские черты.
Может, конечно, это следы от ударов, оставшиеся после какой-то детской драки. Или ножевые шрамы после пьяных стычек в задней части бара. А может, следы от ногтей одной из придорожных девок, которых я не помню. Они прекрасны и незабываемы, когда ледяное пиво в сочетании с тройным виски размывают острые грани мира настолько, что их можно потерпеть еще пару минут. Женщины средних лет медленно танцуют со мной на мокром полу в кабаке Лидбеттера и стараются забыть о своих невзгодах, пока мы судорожно тащимся к парковке и на заднее сиденье моего пикапа.
ДЖОНАС ВЛЮБИЛСЯ В САРУ, которая снимает студенческий документальный фильм о нашей семье.
Уже пару недель она живет в доме вместе со своим оператором, Фредом. Сара пытается взять у меня интервью, но думает, что я очередной тупоголовый болотный крысеныш из Кингдом Кам, у которого все мозги отшибло от восьмидесятиградусного самогона. Она – типичная американо-еврейская принцесса; взяла старт прямо с золотого берега Лонг-Айленда, но ей нравится выдавать себя за богему Ист-Виллиджа.