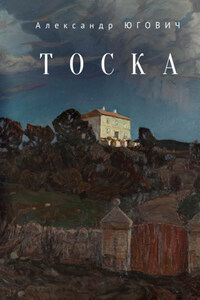Хорошее жилище для одинокого охотника
Однажды зимой, в феврале, я пребывал в угнетенном состоянии духа: не хватало сюжетов для моих рассказов. А писать было необходимо: в доме не было ни крошки хлеба, последний кусок маргарина я извел вчера, потому что всухую картошка на сковородке пригорала. Много раз я выходил из дома и бродил по Невскому, пытаясь успокоиться, но всё напрасно. Напрасно я припоминал свои приключения, анекдоты из жизни знаменитостей со времен Рюрика и Мономаха, надеясь извлечь какой-нибудь сюжет: все мне не нравилось. Где бы занять денег до получки и сюжет?
И тут я вспомнил знакомого дипломата Венесуэльского, с которым был дружен и который меня похваливал. Отставного консула одной латиноамериканской страны. «Я у него никогда не занимал, надо рискнуть. Может, угостит не только рассказом, но и чем посущественней», – подумал я.
К счастью, Венесуэльский оказался дома. Я решил вести себя так, как если бы ни в чем не нуждался: такому охотнее подавали.
– Ты не представляешь себе, что такое деревенская любовь! – сказал он в ответ на мой вопрос, отхлебывая кофе маленькими глотками. – В городе парочке и часу нельзя провести наедине, разве что запершись в квартире, да и то их любовную воркотню будут прерывать телефонные звонки; в городе ты выставлен на всеобщее обозрение. В деревне – совсем другое дело! Там ты можешь носиться со своей любовью сколько угодно; знакомые к тебе не пристанут, никто не придет с пошлыми поздравлениями и пожеланиями счастья. Притом, там любовь требует меньших расходов: нарвать букетик полевых цветов, отнести своей девушке, вот и все. Главное, чувства там неизменны, не искажаются – ты меня понимаешь? – третий лишний почти исключен. А природа? Любовь на природе самая светлая, лиричная, интимная, самая тихая и бездеятельная.
Венесуэльский сидел, закинув ногу на ногу, и старался выглядеть беззаботно, но сквозь напускную веселость пробивался страшок. Этот холеный седовласый человек беспокоился, достоин ли я, чтобы поверять мне свои давно минувшие чувства, еще иногда отзывающиеся в душе. На какое-то время он замолчал; его потухший взгляд лежал на мне, как сургучовая печать; однако вскоре его сомнения разрешились благоприятно для меня, он очнулся, предложил сигару и закурил сам (лучше бы он предложил к кофе хоть пирожок с капустой, хоть это и по-русски).
– Я уже немолод и, наверно, мне нет нужды копаться в себе, причем добровольно… Но мне доставляет определенное удовольствие вспоминать тот случай: я выгляжу таким дураком. Ну, да тебе ведь нужна только канва, пропущенное дорисуешь, обогатишь чувствами и мыслями. Уж я-то знаю, как ты умеешь, извини за фамильярность, вкручивать баки. Вот и ладно. А я рад сослужить службу твоей сладкоголосой музе. У нас сегодня домашние пирожки из духовки…
– Вы предугадываете…
– Спасибо Лиза! У нас состоятся деловые переговоры с господином Ивиным, но через час я зайду тебя проведать…
Удивляло, что Венесуэльский со мной торгуется, как заправский литературный агент, прикрывая коммерческую сделку лестью и товарищескими словами. (Надо, пожалуй, перестать быть веселым человеком, а то многие думают, что у меня куча денег). Он то и дело оговаривался, набивал цену будущему рассказу, так что поначалу его отговорки и далекие подступы меня бесили. Он выглядел барином. У нас так повелось со дня знакомства, что он обращался ко мне на «ты», а я к нему на «вы». Потому-то я так редко его навещал, что чувствовал себя придворным стихоплетом, которому благоволит вельможа.
– Ну, так вот, – продолжал он. – Отец отпускал меня гулять допоздна. В то время я уже влюбился в нее, она это замечала, но не подавала виду. Тогда я решил действовать по принципу: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Интуитивно, разумеется, а не сознательно. И правда: я стал замечать, что выигрываю. Я прекратил с ней всякое общение, а в разговорах с друзьями отзывался о ней иронически, называл дурочкой. Да еще и волочился за одной ее лупоглазой подругой. В борьбе двух тщеславий мое должно было выиграть. Вскоре до нее стали доходить мои нелестные отзывы, истинную причину моего поведения она не поняла. Думаю, что и она хотела мне понравиться, хотя и не прилагала усилий к тому. А когда я от нее отшатнулся, ее симпатии возросли. Многие женщины странновато устроены: любят тех, кто о них не помышляет, а обожателей не замечают. Я имею в виду красивых женщин. А она была красива русской здоровой красотой – не нежной и пленительной, а именно здоровой. Каштановые локоны на лбу, лавина густых волос, рассыпанных по плечам, светленькие брови, голубые с малахитовым оттенком глаза. Стоило видеть, как она шла к колодцу за водой, легкая, веселая, а ветер обвивал платьице вокруг ее стана. А смех? Когда она смеялась, хотелось смеяться вместе с ней: до того заразительно. Мне хотелось сидеть с нею рядом, обнимать за гибкую талию, смотреть в глаза – невинно, нагло, влюблено. Я почти физически страдал сперва, пока не заинтересовал ее собою. Я в те годы был большой выдумщик и немного не от мира сего, а она иногда по-мальчишески резковата, способна отчебучить что-нибудь этакое. А я конфуза не хотел, как все гордецы…
Мы все собирались в клубе, и она вела себя там как женщина; это тоже пугало. Я старался нравиться другим девушкам и, наверное, нравился: танцевал, – в то время танцевали шейк, – показывал, что я сильный, повеса, любитель выпить; в общем, рубаха-парень. Я понимал уже тогда, что уеду из деревни, и кутил чистосердечно, как бы на прощание перед долгой разлукой. Вечером однажды, помню, явился в клуб в накрахмаленной рубашке, в галстуке-бабочке, а рукава закатал, потому что мне определенно нравилась мужественная волосатость собственных рук. Такой был напыщенный. Старался одеваться лучше всех местных ребят, которые приходили, чтобы сыграть в бильярд и поразвлечься анекдотами. Возможно, они меня не любили за франтоватость, за успех, – сами-то они были попроще и посердечнее. Но тоже не брезговали d′education sentimental: уединится такая парочка где-нибудь в темном углу или гуляют по улице, а потом, поскольку все это замечают и над ними начинают подтрунивать, их любовь уходила – в никуда, в песок. Воздействие общества. Потом эти кавалеры и барышни даже враждовали между собой. Все это было как-то шутя, с хохмой…
Но главное, конечно, было тогда в том, чего я и сейчас не в состоянии себе объяснить: было хорошо от избытка сил, совершенно провальной черноты ночи, когда, скатившись по лестнице, ты оказываешься за дверьми, на улице: пахнет так влажно, густо, таинственно скошенным сеном с лугов, воздух так тепел и густ, что в него входишь, как в парное молоко. Темень непроглядная, стена из щелястых бревен, к которой прислоняешься, пока глаза привыкнут, суха на ощупь, и сразу за порогом тебя обмывает такая глубокая тишина, что собственный топот на лестнице воспринимается нехорошо. Замрешь на минуту, со свистом переводя дыхание и вслушиваясь в глухое молчание влажной пахучей ночи, – и становится чуть не по себе; и вот, проглядываясь и привыкая, различая и соседние избы в виде обширных облаков сгущенной тьмы, и дорогу в виде смутной серой перспективы, берешь велосипед за холодный эбонитовый руль, – и в это время там, где особенно плотна тьма от надвинувшегося ельника, и откуда тянет особенно удушливо, – смолой, хвоей, мхом, – над всем этим пространством вдруг вспыхивает матовым блеском зарница. И опять тьма, еще чернее. Ни звука, ни дуновения, только гулко бьется сердце от полноты кровотока и свистит на зубах сдерживаемое дыхание. Где-то там, вверху, клубятся тучи, откуда-то оттуда, где равномерно, молча просверкивает зарница и пахнет головокружительным озоном, должно быть, надвигается гроза, а ты уже угадываешь пыльную дорогу, ведущую за околицу мимо пониклых черемух и низких палисадов. Дребезжит заднее крыло велосипеда, в серой убитой дорожной пыли вязнут колеса, ты едешь навстречу ночной грозе, навстречу грозовой туче, из которой тянет такими щекочущими, сладкими таинственными запахами, что просто свербит в носу. Страшно не того, что после каждой вспышки зарницы слепнешь от чернильной тьмы, и не сумрачного ельника по обеим сторонам дороги, в котором чудятся шорохи, шепоты, привидения, а страшно и жутко весело общего твоего душевного подъема, весело от возбуждающих электрических токов, которыми нагальванизировано все кругом, так что хочется вызвать самое грозу на поединок; и ты разгоняешь велосипед что есть мочи, чтобы чувствовать тугую волну встречного воздуха. Некуда девать силы, они переполняют тебя и волнуются, и сзади тебя подстегивает страх, и впереди он поджидает, но ты упорно стремишься вперед, а потом сворачиваешь на тропу в перелесок, потому что там еще страшнее трястись по корням дерев, шуршать шинами по сухим иглам и шишкам, чтобы, минуя этот страшный сумрак и избегнув отовсюду простертых хищных ветвей, выскочить в открытое поле. Там еще не убран лен, и хорошо проехать по тропе, шурша, слушая, как звенят в колесных спицах сухие коробочки. Там посреди поля, можно остановиться, перевести дух и успокоиться. От нагретого поля исходит знойный дурман, от низкого неба и разорванных змеистых туч насыщенная влажность, и, встретясь где-то посреди, они стоят не перемешиваясь. Опушки поля не ощутимы, оно кажется огромным, и, медленно проезжая, чувствуешь себя точно в ночном океане на плоту. В другие ночи, когда не собирается гроза, а день был жаркий, проезжая под шелест льняных коробочек, окунаешься попеременно то в промозглый холод, от которого покрываешься пупырышками, то в знойную парную, – так неравномерно перемешивается ночная прохлада и дневная жара. Но самое упоительное – это постоять посреди поля минут пять, кожей ощущая как бы остекленелые прозрачные пространства над головой, если ночь звездная, или беглое, порывистое шевеленье туч там, наверху, если ночь пасмурна и с ветром. Тайна со всех сторон окутывает и растаскивает тебя, тайна и чудесное счастье тревожного одиночества посреди шевелящегося простора, наползающих теней, незаметных течений плотного, как вода, ветра и смутных шорохов в корнях травы. Этих пяти минут хватает, чтобы зарядиться счастьем и потаенным ликованием, и обратно возвращаешься уже не спеша, без нервов, порывов и боевой отваги, с полным спокойствием самодовольства, и даже ветер как будто в спину, и сполохи сзади не тревожнее, чем блики огня в печурке; а если в этот миг, при полном отсутствии грома и совсем непроглядной обстановке в небесах, на темя вдруг упадает полновесная капля дождя, можно и вовсе беззаботно рассмеяться. И опять колеса неразборчиво стучат по переплетенным корневищам деревьев, а потом вязнут в пыльных колеях проселочной дороги. Август зноен и давно не было дождя, он все только собирался всякий раз к вечеру и, не состоявшись, к блистательному солнечному утру представал в виде слоистой плоской тучи, растянувшейся по горизонту.