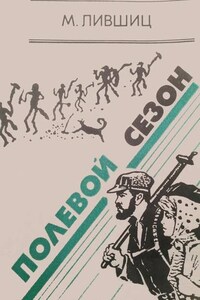Тучи сгущались над Родиной. В лупоглаз было видно, как далеко-далеко, за пасекой Ильи Муромца, за старым цементным заводом, где хранил теперь свои сокровища Царь Кощей, и еще дальше за брошенным гнездом Соловья-Разбойника по вечерам над островерхими черными елями поднимались костлявые руки, как бы в раздумье постукивали кончиками пальцев друг о друга, потом потирали ладонь о ладонь, и снова исчезали, как струйки дыма, в непролазной чаще внизу.
– Тяжко мне! – доносилось через некоторое время с той стороны, где показались и пропали костлявые руки, но не так тоскливо, как в бессмертной сказке1, а с некоторым даже упоением. Земля при этом вздрагивала.
А если лупоглаз поднести к самому глазу, то было видно еще дальше, где за размытой далью Моря-Окияна, за вулканами Острова-Буяна поднимались в небо шпили и флаги Столицы, и раскачивались, должно быть от ветра, стрелы строительных кранов.
И разномастные птичьи стаи неслись с той стороны, только воронье да несколько особо любопытных сорок летело им навстречу – туда, откуда наползала на небо черно-коричневая хмарь, мощным клубящимся фронтом сдвигающая прозрачный сентябрьский вечер, звенящую прохладу розового заката, прощальные трели бабьего лета.
Батя сидел на лавке перед липовой плахой и точил на камне ножи Марье Моревне и топорыдля себя.
Старик Прохор, виляя тощим задом, спускался по лестнице с крыши. Лупоглаз он бережно прижимал к самому сердцу, поэтому спускаться было неловко, приходилось корячиться.
– А ты бы на веревочку привязал, да на шею бы и надел, – посоветовала ему Василиса.
– А потом на эту веревочку камень, и в воду, – недовольно ответил старик Прохор, – знаем мы эти повороты судьбы. Кто много видел – много плачет.
– А ты не смотри, – сказала Василиса, – лучше мне отдай, мне интересно на звезды посмотреть.
– Дуреха, – пробормотал старичок Прохор, – звезды уму-разуму не научат, ум-разум у меня там.
Старичок Прохор указал сухим пальцем на дверь в дом и осторожно, стараясь ступать бесшумно, направился к крыльцу.
– Что-то ты не торопишься, – посмеялась Василиса.
– Говорю же – дуреха! Мои сундуки не любят, когда к ним с шумом и громом подъезжают. История требует уважительного отношения. Да и щуку негоже тревожить, и так у нее перед грозой сон плохой.
– Плохо, – вдруг сказал Батя и с силой всадил топор в плаху.
– Что плохо, батюшка? – встревожилась Василиса.
– Да… – начал было Батя, но смолчал и задумался, сдвинув густые брови и подперев голову широкой ладонью.
На крыльцо вышла Марья Моревна:
– Прохор, там твой сундук топчется. Пылища из-под негопрет. Вынеси пока на двор, девки приберутся.
– Оно и лучше. На свежем воздухе-то артефактам голову человеку труднее задурить, – ответил старичок Прохор.
Он щелкнул пальцами, из кустов вынырнули несколько огородников и засеменили впереди него в дом.
– А что теперь разбежался? – весело спросила Василиса.
– Ну, раз сундук проснулся, бесполезно таиться, – бодро ответил Прохор. – История, когда сама за дело берется, то только успевай уворачиваться.
С неба испуганно закурлыкали журавли. Марья Моревна подняла недовольное лицо:
– Вот ведь, бедолаги, рано с насиженных мест поднялись. И впрямь, гроза собирается!
– Не гроза это, – сухо проговорил старичок Прохор. – Гроза она завсегда природу оживляет, а это все не к добру.
– Плохо! – снова тяжело вздохнул Батя и выдернул топор из плахи.
– Что плохо, батюшка? – спросила Василиса.
– А то плохо, что туча напирает, а гонцов наших не видать!
– Как это не видать! – ухмыльнулся старичок Прохор. – А это кто, не гонец разве? Я еще с крыши увидал, что подходит, да говорить не стал. Смурной он какой-то нынче. И лицом темен – не только в прямом, но и в переносном смысле.
У калитки стоял Джон, положив руку на острия штакетника, не решаясь открыть. Смотрел вниз, кусая толстые красные губы. По черному лбу, как алмазы, сверкали бисеринки пота.
– Джон! – воскликнула Василиса, – что же ты один?
– Отстань, – одернула ее Марья Моревна, – видишь, на человеке лица нет. Усади сначала хоть на лавку, раз в доме не прибрано, да полотенце подай, утереться надо.
Джон, понурив курчавую голову, скрипнул калиткой и подошел к Бате.
– Плохо? – спросил Батя
Джон облизал пухлые губы, сел рядом и хлопнул себя по колену:
– Не то слово!
Батя перевел взгляд на Марью Моревну. Та покачала головой и в свою очередь посмотрела на Василису. Василиса пожала плечами и кивнула на старичка Прохора.
– Оно и сразу понятно, без перемигиваний и переглядываний, – проскрипел Прохор, – Спасать интернационал надо. Вот только, думаю, смородиновый, или грушевый принесть?
Прохор замолчал и замер, прислушиваясь к скрежету, доносящемуся из дома.
– Ладно, пока там тащат, я мигом, – он повернулся и захромал к амбару.
Василиса сбегала в дом, принесла полотенце, дала Джону утереться. Присела на крыльцо – вся внимание.
– И что, совсем плохо? – спросил Батя, разглядывая лезвие топора.
Джон посмотрел в сторону ковыляющего старичка Прохора, начал рассказывать.
– Мы как приехали, нас сразу на скамейку у стены, мол, представители. Я – от Африки, Иван – местный, Петька – петухом сидел, грудь колесом. Марсианин один был, Колобок – тоже из наших-от непознанных явлений. Яга в дверь нос сунула. Сначала-то ее не пустили, сказали, репутация не подходит, а потом председатель очки протер, и пустил. Для кворума.
А председателем был Вий. С прошлого раза, вроде как раздобрел. Или это воздух в столице такой – все как в мареве расплывается. Вокруг него, и даже за ним – президиум, совет. Но из-за марева их даже не сосчитать было, помню только, что щеки красные, лощеные, и лбы гладкие.
Ну вот. Рядом с председателем резной ларчик. С инвентарным номером на цепочке. А перед ним – на специальном столике, тот самый черный ящик, из-за которого все и собрались. Рядом лаборант в белом халате.
Джон перевел дух, глотнул воздуха. Открыл рот, чтобы продолжать, но не успел.