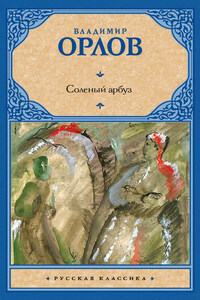– Приходите к шести, – сказала молодому прозаику Шелестову редакторша «Земли и фабрики» Лидия Муразова. – Все разойдутся, спокойно поработаем.
Шелестов заподозрил бы соблазнение, если бы круглую, крепкую, соломенную его голову могла посетить мысль о домогательствах со стороны Муразовой. Муразову можно было представить за каким угодно занятием, но с мужчиной – никогда. Сухая жердь, красное обветренное лицо, губы в нитку. Рассказывали о ее комиссарском прошлом.
Домогательств Шелестов не опасался, а вот что вторгнется в первый том – это запросто. Федор Бутыкин в пивном подвале напротив «ЗиФа» рассказывал, что она из его «Чернозема» железной рукой вычистила все родные воронежские словечки – буторный, заматишный, пыжный. «Ну ты ж подумай! – кричал Бутыкин и бил вялым кулаком по мокрому деревянному столу. – Пыжный! Скажи «пыжный» – и ты, ютить, видишь сугроб, жаркий, жирный, как, эт-сам, напыженный! Скажи «пышный» – и что ты видишь? Ты видишь тьфу!» В жизни Бутыкин, правду сказать, выражался нецветисто, все больше матерно – никто б не угадал в нем автора «Чернозема», который, гутарили, и в Воронеже мало кто понял. «Эт-сам» через слово, и вся черноземность.
Для самоуверенности, чтобы не уступить ни слова из романа, Шелестов постоял немного в той самой пивной – сидячих мест не было, не баре, – выпил кружечку, заел бледным, морщинистым моченым горохом, послушал разговоры. Был мягкий вечерний час, по Никитской глухо цокали копыта – весна случилась поздняя, в середине апреля по мостовым еще лежала снежная слякоть, – и Шелестов думал, что гостю из будущего, забреди он научным чудом в апрель двадцать седьмого, интересней всего будут не тресты, не концессии, не англо-русский комитет, даже и не Чан Кайши в Шанхае, а пивной треп за соседним столиком, Люська, которая легла на вычистку, Трункевич, который ездил к родне в Тамбов и видел трактор, Коля, который отравился килькой. «Лютая бредомуть! – говорил бесцветный узколицый комсомолец про похождения путешественника Бьернсена, только что прочитанные. – Лютая!» И Шелестов думал, что непременно впишет это во второй том. Дело у него шло, он был настроен хоть и твердо, но благостно, как всякий человек, у которого ладилось задуманное. Никогда еще не работалось ему так бодро и ясно, и поздняя весна казалась подспорьем – он сам словно переживал позднюю весну, и никакая Муразова не могла ему помешать.
Муразова одна ждала его в кабинете, где днем было не продохнуть от папиросного дыма и где три литработницы «ЗиФа» соревновались в бесплодном, ядовитом пересмеивании авторских ляпсусов.
– Я, собственно, – сказала она, как всегда, без предисловий, – хотела проработать с вами одну главу, часть вторая, где ваш этот Стельнецкий в Петербурге знакомится с Софьей, вот этой, Балановой.
У Муразовой была неприятная манера вставлять «этот ваш», «вот эта» – словно в действительности ничего такого быть не могло, а только в шелестовских «Порогах».
– Баланова – лицо историческое, – предупредил Шелестов, чтобы снять вопросы заранее.
– Это неважно, – отмахнулась Муразова. – Я о другом. Вот эта сцена в «Харчевне трубадуров», где Баланова у вас танцует на столе. Я не знаю, зачем это. Я бы сняла.
– Это не ко мне, – начал было Шелестов, но быстро прикусил язык.
– В каком смысле? – насторожилась Муразова.
– В таком, – ответил он уже зло, – что это так было, то есть бывало, и нечего теперь приукрашивать…
– Вы откуда это знаете? Вы бывали в «Приюте»?
– Я в «Приюте» бывать не мог, – ответил Шелестов, все более раздражаясь, – мне было тогда, сами понимаете, пятнадцать, и я, сами понимаете, пахал. Но вы не станете же отрицать, что тогдашняя вся эта богема вела, так сказать, образ жизни…
– Богема, может быть, и вела, – сказала Муразова неожиданно мягко. – Но в «Приюте» никогда не собиралась богема. Это же не «Клюква», в конце концов. Там бывали Евреинов, Сухоногов, Барский. Там никто не танцевал на столе.
– Слушайте, какая разница, – сказал Шелестов, – у нас, у меня то есть, не учебник истории, я могу, если вы так настаиваете, кабак переназвать. Пусть будет «Танцующие на столе».
– Ну отчего же. – Она заглянула в рукопись. – С этим все как раз правильно – Малая Морская, подвал, дерево это райское… с конфетами… Прямо вы как будто бывали. И тем оскорбительней, понимаете… Зачем же переименовывать? Это деталь, сообщает достоверность. Но просто не надо смешивать, верно?
– Да это не так все важно, – с досадой сказал Шелестов, – там, понимаете, это один эпизод. И сам Стрельнецкий, собственно… только чтобы видеть разложение…
– Но из этого и складывается! – с неожиданной комиссарской горячностью возразила Муразова. – Из этого и может соткаться общая неправда! Вот смотрите: у вас дальше он знакомится с Балановой и приглашает ее на острова. Никакая, понимаете вы, никакая уважающая себя женщина тогда… поэтесса тем более… не поехала бы вот так, со второй встречи, с мужчиной на острова! Тем более к Волынцеву. Это был ресторан с определенной славой.
– Ну Баланова и женщина была с определенной славой! – не сдавался Шелестов. – Вы же знать должны, все это мутное вино и все прочее…
– Я не защищаю Баланову, – вспылила Муразова и тут же осеклась. – Это чуждое искусство и упадок. Но одно дело искусство, а другое – ехать на острова. Тем более она тут у вас говорит: «…у вас пахнет изо рта, вам надо полоскать рот». Какая женщина так могла сказать мужчине? Есть вещи, которых вслух не говорят.
– Ну так мне и важно, – рубил Шелестов, – что она такая, что при своей нечистоте она заботится об чужой чистоте…
– Про нечистоту отдельно. Вот смотрите, она у вас с Блоком едет в Стрельну. Неважно, что Блок никогда не ездил в Стрельну, но Баланова никогда не ездила с Блоком!