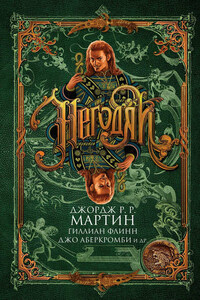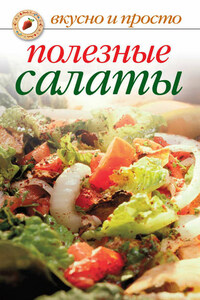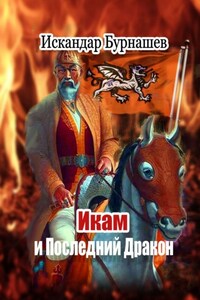Когда я представляю свою жену, то прежде всего вижу голову. Увидев ее впервые с затылка, я решил: в форме черепа есть что-то умилительно-округлое. Он напоминал спелый орех или окатанный камень со дна реки. В Викторианскую эпоху сказали бы: голова идеальной формы. Я узнаю эту голову где угодно.
Глядя на нее, с легкостью можно представить череп.
И то, что внутри. Об этом я тоже думаю – о ее разуме. Мозг с уймой извилин, по которым стремительными многоножками бегают мысли. Подобно ребенку, я воображаю, как вскрываю череп Эми и разматываю, как клубок, извилину за извилиной, прочесываю их, пытаясь найти и выловить мысли.
«Эми, о чем ты думаешь?» – вот вопрос, который я чаще всего задавал за время нашей семейной жизни. В основном не вслух, а мысленно. Думаю, такие вопросы клубятся, словно грозовые тучи, над каждой супружеской парой.
«О чем ты думаешь? Что чувствуешь? Кто мы? Что сделали друг для друга? Что еще нам предстоит сделать?»
Мои глаза открылись ровно в шесть утра. Не затрепетали ресницы, как птичьи крылья, не наступило медленное пробуждение, нет. Обыденный механический процесс. Как будто фокусник распахнул черный ящик. Только что мир окутывала тьма, и вдруг – бац! – свет. На часах горели цифры – 6:00. Редкое событие. Обычно я не просыпаюсь в круглое время. Мои побудки беспорядочны: то в 8:43, то в 11:51, то в 9:26… У меня вообще беспорядочная жизнь.
И в этот круглый миг, в 6:00, солнце перевалило через выстроившиеся на горизонте дубы, явив себя строгим летним владыкой. Его лик вспыхнул по ту сторону реки, к нашему дому протянулся длинный сияющий палец и уперся прямо в меня сквозь хлипкие занавеси грозным жестом: тебя увидели и уже не спустят глаз.
Я уткнулся носом в подушку на нашей нью-йоркской кровати, привезенной в новый дом. Мы все еще называли его новым домом, хотя переехали больше двух лет назад. Арендованный коттедж на берегу Миссисипи был вызывающе роскошным, как загородный дворец нувориша. Сюда я стремился с самого детства, жизнь в большом городе тяготила меня.
Дом, где все знакомо до мелочей… но моя жена его ненавидит.
«Может, мне душу оставлять при входе?» – осведомилась она, едва появившись здесь.
Тогда Эми настояла не на покупке, а на аренде дома в моем родном штате Миссури, всерьез рассчитывая, что надолго мы не задержимся. Но сдаваемые дома столпились именно здесь, в крошечном городе-призраке, разоренном кризисом. Недвижимость переходила в собственность банков, падая в цене до немыслимых пределов. Коттеджные поселки в окрестностях закрывались порой раньше, чем успевали открыться. С моей стороны это был компромисс, но Эми так не считала. Она называла мой поступок прихотью эгоиста, предательской, как удар ножом исподтишка. Оказывается, я перетащил ее из настоящего города с его кипучей жизнью в глушь и дикость, заточил среди деревенщины, над которой она привыкла потешаться.
Я всегда считал, что для достижения компромисса к нему должны стремиться обе стороны. Но почему-то все наши компромиссы были односторонними. Один из нас обязательно оставался недовольным. И как правило, это была Эми.
Не надо злиться на меня, Эми. Не надо называть это «миссурийской катастрофой». Злись на экономику, на невезение, на моих родителей, на своих родителей, на Интернет и на интернет-пользователей.
Я привык зарабатывать писательским трудом, сочинять романы, сценарии для кинофильмов и телевизионных программ.
Когда-то люди читали с бумаги, и я жил не тужил. Я приехал в Нью-Йорк в конце девяностых; в ту пору престиж писательского труда уже дышал на ладан. В Нью-Йорке автор на авторе сидел и автором погонял. И это были самые настоящие писатели, поскольку хватало журналов, газет, книжных издательств. Интернет тогда казался экзотической зверюшкой в отдаленном уголке информационного мира – кинь ей горстку корма и любуйся, как она пляшет на коротком поводке; не надо бояться, что однажды ночью подкрадется и прикончит тебя. Подумать только! Было время, когда вчерашний выпускник колледжа приезжал в Нью-Йорк и зарабатывал на жизнь литературой. Разве мы могли предполагать, что осваиваем ремесло, которое уже через десять лет станет никому не нужным?
Целых одиннадцать лет у меня была востребованная работа, а потом раз – и пропала. По всей стране хирели вместе с экономикой и закрывались журналы. Писатели (то есть писатели моего типа – трудолюбивые беллетристы, вдумчивые философы, недостаточно гибкие, чтобы уйти в блогеры и городить всякую чепуху, в большинстве своем упрямые старые гордецы) исчезали, подобно создателям дамских шляпок или извозчичьих кнутов. Наше время ушло. Через три недели после того, как я получил от ворот поворот, лишилась работы и Эми. Могу представить, как она заглядывает мне через плечо и ухмыляется, читая строки, где я рассуждаю о своей карьере, о неудачах и увольнениях. Все ее отношение к моим рефлексиям помещается в одной фразе. «Как это типично, – говорит она. – Как это на тебя похоже, Ник».
Эти слова звучат как рефрен. Чтобы упасть в ее глазах, достаточно показаться похожим на меня.
Два взрослых безработных человека, мы блуждали по ржавым бруклинским пескам в носках и пижамах, наплевав на будущее, расшвыривая нераскрытые конверты по столам и диванам, поедая сливочное мороженое, с десяти и до полудня, а после обеда отсыпались.
А однажды зазвонил телефон. На другом конце провода была моя сестра-двойняшка. Марго тоже потеряла работу в Нью-Йорке и вернулась домой. Девочка вечно опережала меня на шаг, даже когда получала пинки от судьбы-злодейки. Она звонила мне из старого доброго Карфагена, штат Миссури, из дому, где мы выросли. Прислушиваясь к голосу Марго, я видел ее десятилетней, с волосами как копна, в шортах на помочах, сидящую на дедовском причале. Она горбилась, смахивая на старую подушку, и внимательно следила за белесой, как рыба, ногой, которой болтала в воде. Марго всегда была очень сосредоточенной девочкой.
Добрым, даже можно сказать ласковым, голосом она сообщила удручающую новость. Наша несгибаемая мама умирала. У отца дела обстояли не лучше, его отвратительный разум и ничтожная душа угрюмо брели в серую мглу посмертия. Но по всему выходило, что мама и в этот раз его переплюнет. Врачи давали ей шесть месяцев, ну самое большее год. Я узнал, что Го беседовала с доктором без свидетелей и тщательно записала его слова своим неразборчивым почерком. И теперь, пытаясь расшифровать заметки, неизменно срывалась на плач.
Ее смущали сроки и дозировки.
– Ну, мать его растак, поди вспомни, что он имел в виду! Что значит – девять?! – восклицала она, и я решился.