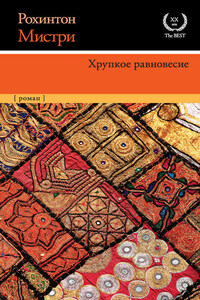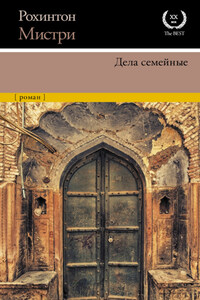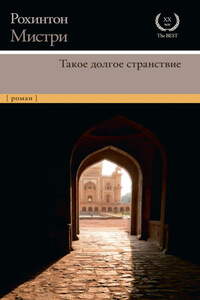С мучительным стоном Рустом-джи вышел из туалета, зажав в горсти развязанные шнурки пижамы. Безграничная ярость искажала его небритое лицо. Он еле удерживал на себе пижамные штаны в желтых пятнах.
– Мехру! Аррэ[1], Мехру! Ты где? – закричал он. – Говорю тебе, я этого не вынесу! И надо же, чтоб именно сегодня, в Бехрам роз[2]! Мехру! Ты слышишь?
Появилась Мехру. Ее тапочки ритмично шлепали – тюх, тюх – раз-два. Она была намного моложе мужа, в свое время ее выдали за тридцатишестилетнего мужчину совсем юной девушкой, не дав доучиться в школе последний год. Рустом-джи, успешный бомбейский адвокат, показался родителям Мехру удачной партией – никому не приходило в голову, что в пятьдесят он уже будет носить зубные протезы. Кто, охваченный ажиотажем сватовства на пике свадебного сезона, мог бы представить себе вялый беззубый рот, который каждое утро приветствует женщину в самую пору ее расцвета? Никто. И уж, конечно, не Мехру. Она родилась в семье правоверных парсов, соблюдавших все важные даты парсийского календаря, молилась и посещала все положенные церемонии в храмах огня и даже устроила себе комнату с железной кроватью и железным табуретом, какие полагаются женщинам, когда раз в месяц они бывают нечисты.
Мехру с готовностью приняла уготованную ей судьбу и принесла в свой новый дом родительские обычаи. Там ей было разрешено все, кроме «нечистой» комнаты, о которой Рустом-джи даже слышать не хотел. На самом деле в глубине души он, в общем, любил древние традиции, хоть и делал вид, что к ним безразличен. Он с удовольствием ходил в храм огня, нарядившись в сияющую белизной рубашку дагли и накрахмаленные белые брюки. На голову с прекрасными волосами, еще не разделившими участь зубов, он водружал национальную шапку фейто.
На мужнины крики Мехру отреагировала добродушно. Она старалась сохранять спокойствие, поскольку то утро должно было завершиться молитвами в храме огня, и она была готова сделать все, чтобы не испортить прекрасный праздник Бехрам роз. Этот день парсийского календаря был ей особенно дорог: именно в Бехрам роз мать дала жизнь Мехру в родильном доме Ауабай Петит Парси; в этот же день, когда Мехру исполнилось семь лет, она прошла ритуал навджот[3] и семейный священник дастур[4] Дхунджиша ввел ее в лоно зороастрийской церкви; наконец, четырнадцать лет назад в Бехрам роз на ней женился Рустом-джи, и свадьба гуляла до самого утра – говорили, что ни один нищий не ушел голодным, столько еды было выброшено в тот день в помойные контейнеры Кама Гарден.
Да, Бехрам роз многое значил для Мехру. И поэтому она прокричала нараспев:
– И-ду! И-ду!
Рустом-джи взревел в ответ:
– Ты там оглохла, что ли? Мне тебя звать, пока легкие не лопнут?
– Иду-иду! У меня только две руки, а работы полно. Гунга[5] опаздывает, пол не подметен.
– Аррэ! Забудь про свою гунгу-бунгу! – завопил Рустом-джи. – Этот вонючий туалет наверху опять течет! Бог знает, что они там делают, чтобы нас залить! Я сел и только-только начал, как кто-то спустил воду, и мне прямо на голову как ливанет – плюх! – и я весь мокрый! Прямо на голову!
– На голову! Ой-ой-ой! Какой ужас! Как неблагоприятно! Как…
Мехру не находила слов и вся сжалась от отвращения при известии о столь оскверняющем происшествии. Она осторожно заглянула внутрь туалета, опасаясь потока экскрементов и прочих нечистот, но заметила лишь постоянное равномерное капанье – кап-кап-кап-кап – прямо в унитаз, так что нечего было и думать о его использовании. Пока проводился осмотр, позади Мехру с диким, безумным видом кипел от ярости Рустом-джи, все еще сжимавший в кулаке завязки пижамы.
– Почему бы нам на этот раз не вызвать хорошего сантехника вместо того, чтобы жаловаться управляющим Баг? – рискнула предложить Мехру. – Они ведь опять схалтурят.
– Я не дам им ни одной пайсы из своих доходов, добытых тяжким трудом! Пусть платят эти мерзавцы, усевшиеся задницей на мешки с нашими деньгами! – бушевал Рустом-джи, размахивая свободной рукой, не державшей завязки. – Я наложу кучу им в конторе, наложу кучу в их домах! Если надо будет, наложу кучу им под дверью!
– Успокойся, Рустом-джи, не говори такие вещи в Бехрам роз, – увещевала его Мехру. – Если тебе еще хочется в туалет, я попрошу соседку Хирабай тебя пустить.
– Это ту, у которой муж дурак! Я тебе тысячу раз говорил, что не войду к ним в дом, если там Нариман. Да и все желание прошло. Исчезло, – обреченно произнес Рустом-джи. – День полностью испорчен. И кто знает, – добавил он с извращенным удовлетворением, – это даже может кончиться запором.
– Нариман, наверное, пошел в библиотеку. Я попрошу Хирабай, и ты зайдешь к ним попозже. Я сейчас иду туда, чтобы позвонить в контору, а когда вернусь, заварю тебе хорошего горячего чаю. Быстро выпьешь чашечку, и тебе снова захочется, – успокоила мужа Мехру и вышла.
Рустом-джи решил вскипятить себе воды для ванны. Было ощущение, что он с ног до головы покрыт нечистотами.
Медный таз уже стоял наполненный водой. Но его забыли накрыть, поэтому туда нападали с потолка белые кусочки штукатурки. Они плавали на поверхности подобно белым пятнышкам, пляшущим перед глазами Рустом-джи, когда он очень уставал долгим жарким днем в душном здании суда или когда сильно раздражался, крича на мальчишек Фирозша-Баг, шумно игравших на дворовой площадке в крикет.
Штукатурка уже несколько лет сыпалась в его квартире в корпусе «А», как и в большинстве квартир Фирозша-Баг. Небольшой перерыв случился, когда доктор Моди, постоянно теребивший их управляющую компанию (храни за это его господь), настоял на ремонте. Но тот период прошел, и коммунальщики избрали новую тактику – прекратить все ремонтные работы, кроме тех, что необходимы для спасения здания от сноса.
После некоторого периода сопротивления большинство жильцов стали сами следить за состоянием собственных квартир, нанимая маляров и штукатуров. Но Рустом-джи до сих пор упрямо стоял на своем, называя соседей дураками, потому что облегчают жизнь управляющей компании, вместо того чтобы терпеть неудобства среди осыпающихся стен, пока негодяи не капитулируют.
Когда соседи под предводительством Наримана Хансотии решили скинуться и нанять фирму, чтобы покрасить корпус «А», Рустом-джи из принципа отказался вносить свою долю. Здание выглядело мрачно, с годами приобретя ужасный желто-серый оттенок. Но даже симпатичный пенсионер Нариман, каждый день, кроме воскресений, ездивший на своем ««мерседесе»» 1932 года в Мемориальную библиотеку имени Кавасджи Фрамджи читать ежедневные мировые газеты, не смог уговорить Рустом-джи раскошелиться.