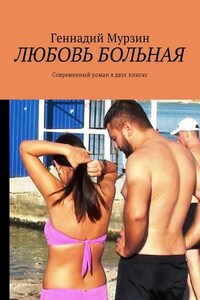– Опять? – тихо спрашивает Рита.
– Снова, – огрызаюсь я, начиная рыться в сумочке.
Мы сидим в некогда любимом кафе, но сегодня оно вовсе не кажется мне уютным. Деревянные панели на стенах будто скрадывают пространство, отчего помещение кажется мне тесным и душным. Слишком широкий стул противно скрипит, даже тихая музыка кажется навязчивой, а желудок болит так сильно, что я смотрю на недоеденную пиццу почти с ненавистью. В то время как подруга на меня – с нескрываемой тревогой.
Стараясь не замечать её взгляда, я забрасываю в рот пару таблеток от изжоги и старательно разжёвываю их, всеми силами пытаясь подавить тошноту.
– И долго ещё это будет продолжаться? – тоже начисто потеряв аппетит, хмурится Рита.
– Видимо, пока совсем не помру.
– Это не смешно.
– А я и не клоун, чтобы тебя смешить! – наверное, мне стоит быть помягче с той, которую я знаю всю жизнь, но… – Так, ладно. Ты хотела, чтобы я выбралась из дома – я выбралась. Итог тебе виден? Прекрасно. В таком случае давай расплатимся, и я поеду домой, варить себе овсянку и прятать подальше кофе и шоколад.
Рита кивает.
– Без проблем. Если не считать того, что это не поможет. В смысле овсянка и всё прочее. Потому что дело не в том, что ты ешь. Я устала тебе повторять, что никакие лекарства и диеты не помогут там, где ты сама не хочешь себе помочь. Чтобы нормально переваривать еду – любую еду, понимаешь? – надо заново научить переваривать жизнь. А ты жизнью давишься так, будто она прогоркла. И пицца тут не причём.
– Прогоркла? – я невольно усмехаюсь. – Отличная метафора. Прямо в точку, потому что так оно есть. Всё, профессор, лекция окончена? Или ещё что-нибудь душеспасительное мне задвинешь? Не зря же всё-таки у тебя диплом в столе валяется.
– Язви сколько хочешь, но именно нечто душеспасительное тебе сейчас и нужно. А диплом мой не просто валяется. Не суть важно, веришь ты в это или нет, но я действительно помогаю людям. Могла бы помочь и тебе тоже, если бы ты позволила.
– Позволила что? Копаться у меня в мозгах? Как в кино, лежать на диване в твоём кабинете и изливать, глядя в потолок, душу? И что же я могу рассказать тебе такого, чего ты сама обо мне не знаешь, скажи?
В ответ она смотрит на меня так терпеливо и внимательно, будто я – семилетний ребёнок, которому она должна здесь и сейчас объяснить основы квантовой физики.
– В моём кабинете не смотрят в потолок, и ты это прекрасно знаешь. Там смотрят внутрь себя – это куда сложнее и порой страшнее. А душа… Ты уверена, что она у тебя ещё есть? Нет, конечно, не в том самом библейском смысле, но… С житейской, с энергетической точки зрения, ты уверена? Я вот нет. Потому что всё, что сейчас внутри тебя клокочет, всё, что делает твою жизнь прогорклой, давно уже твою несчастную душу растерзало и обглодало, как дикий зверь. А тебе остался только голый скелет.
– У души нет скелета.
– Но ты же у нас любишь метафоры? Вот и представь! Включи воображение и представь, что каждая твоя не прощёная обида, каждая не зажившая рана – это своего рода клетка. Точнее, много клеток, как тюремный коридор. И в каждой такой клетке сидит кусочек твоей души. Крохотный совсем или наоборот, но сидит долгие годы, будто в одиночной камере. Воет и не может понять, почему его тут заперли и почему не дают выйти. А коридор тем временем становится всё длиннее, камер в нём всё больше, вой всё громче…
А у тебя внутри такая пустота и… ничтожность, словно ты уже и не человек вовсе. Не то что не прежняя, а не человек вообще, понимаешь? Потому что так оно отчасти и есть, если цельной, какой её Свыше задумали, души в тебе больше нет. Тебе потому и физически так паршиво – главная Батарейка не просто села, а вдребезги разбилась.
Я снова усмехаюсь, пытаясь подавить накатывающее раздражение.
– Так умно, что аж зубы сводит! И что же такого страшного я, по-твоему, не простила, а?
Рита качает головой.
– Об этом нужно спросить тебя. Хотя на самом деле ты знаешь ответ, просто не хочешь признаться даже самой себе. Или, может, и впрямь думаешь, что всё забыла и всех простила, кроме себя. Мол, других простить надо, а с собой я и с такой поживу. В итоге ненавидишь себя прежнюю. Отрицаешь прошлое, страхи и комплексы, боль и обиды. Прячешься за агрессией и злобой, за тем, что отгораживаешься от людей и думаешь, что никогда не была и не будешь достойна лучшего.
Вариантов тут может быть такое великое множество, что язык можно стереть, перечисляя. Но суть одна: ты разрушаешь саму себя, и именно поэтому тебе всё время так плохо физически. Именно поэтому ты не можешь нормально есть, нормально спать – ничего не можешь в полную силу. У тебя внутри вместо костра, который когда-то, я помню, горел так, что тепла на всех хватало, остался один-единственный уголёк, да и тот отсырел.
Поэтому можешь язвить, сколько хочешь, можешь посыпать меня куда хочешь, можешь вообще не выходить из дома и питаться одной только овсянкой. Никто из нас, как бы мы за тебя не переживали, не может заставить тебя быть счастливой и жить в полную силу. Но, знаешь, чего мне очень хочется, Ки?
Впервые за долгое время назвав меня старым детским прозвищем, она мягко касается моей руки и смотрит на меня так, что в глубине Ритиных я вдруг вижу перед собой не взрослую женщину, а маленькую девочку, с которой познакомилась как будто бы десять жизней назад. Девочку, которая до сих пор, видимо, ещё жива. Чего не скажешь обо мне. По крайней мере, о той, кем я была когда-то. До того, как превратилась в загнанное нечто с полной сумкой таблеток.
– Только тебе можно так меня называть…
– Знаю, – кивает она, – как и тебе меня. Любому другому я за «Ри» голову оторву. И ты права. Да, я и без сеансов знаю о тебе всё, что можно знать, и понимаю, вижу корни всех твоих проблем. Беда только в том, что моего понимания мало. Поэтому знаешь, что? Если однажды поймёшь, что больше не можешь так, как сейчас, позвони мне. Обещаю, что смогу помочь. Обещаю, что тебе станет легче. И обещаю, что каждую минуту буду рядом.
Слёзы наворачиваются на глаза раньше, чем я успеваю сдержать их.
– А что, если я уже не могу, Ри? Что, если я уже не могу?..