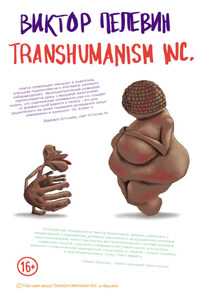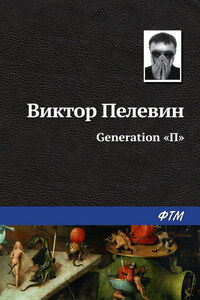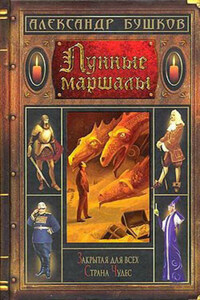Как только появилось время, он смутно припомнил, что нечто подобное уже случалось. Первый момент был подобен вечности – никаких событий за эту вечность не произошло, и она была заполнена чистым существованием, лишенным каких бы то ни было качеств. Второй момент тоже был бесконечным, но эта новая бесконечность оказалась уже чуть короче – хотя бы потому, что она была новой. Он понял, что дальше время будет постоянно убыстряться, пока не достигнет такой скорости и напора, что случится непоправимое. И хоть до этого было еще далеко, мысль о том, что ускоряющееся падение в шахту времени уже началось, вызвала у него странную тоску, словно бы связанную с каким-то воспоминанием.
Эта мысль не была оформлена в словах – никаких слов он не знал, но, будь они ему известны, он, наверно, выбрал бы похожие. Его бессловесное понимание проникало прямо в суть происходящего, а поскольку единственными событиями во вселенной были его ощущения, все его стремительно растущее знание касалось только его самого. Когда он наконец свыкся со своей неясной судьбой, он был уже бесконечно стар и мудр и спокойно взирал на ускоряющийся поток времени.
И тут в его бытие ворвалось нечто невообразимое. Он вдруг осознал, что имеет границы. Что существует находящееся внутри него и за его пределами, а сам он заключен в некие рамки, за которые не в силах выйти. Это было непостижимо, но это было реальностью, тем новым законом, по которому ему предстояло существовать. А потом он ощутил, что, кроме границ, имеет еще и форму.
Самым удивительным было то, что всем этим неожиданностям просто неоткуда было браться – у них не было никакого источника, никакого корня, – но они все равно вторгались в его жизнь. Зато привыкать к новому стало легче, потому что время успело сильно разогнаться и все случалось крайне быстро. Прежняя жизнь, начало которой терялось в невыразимом, была очень долгой, но в ней не было ничего такого, о чем можно было бы думать; теперь же происходило многое, но его сознание успевало только фиксировать изменения, которые стали слишком мимолетными, чтобы затронуть его настоящую основу, – поняв это, он понял и то, что у него есть настоящая основа, а осознать ее и значило проснуться.
Он пришел в себя и увидел главное – превращения происходили не с ним. На самом деле он никогда не покидал первого мига, за границей которого началось время, но, пребывая в вечности, он все же постоянно следил за той причудливой рябью, которую вздымало время на поверхности его сознания; когда же эта рябь стала больше походить на волны и порывы времени стали угрожать его покою, он ушел вглубь, туда, где ничто никогда не менялось, и понял, что видит сон – один из тех, что снились ему всегда.
Он часто впадал в это забытье и каждый раз принимал его за реальность. Для этого достаточно было просто перенести внимание на колышущуюся границу собственного сознания (забыв, что на самом деле ее просто нет – какая может быть у сознания граница?), и проходящая по ней дрожь немедленно захватывала все его существо до момента пробуждения.
Его сны становились все более запутанными и странными. В них он продолжал расширяться, и его форма усложнялась; желая познать окружающий мир, он послал в него длинные протуберанцы, которые вскоре наткнулись на препятствие, вынудившее их согнуться и сложиться. Оказалось, что мир его сновидений тоже имеет границу и его тюрьма – или крепость – довольно тесна.
Но самое странное ждало впереди. Однажды он заметил, что постепенно изменился сам способ, которым он ощущает мир своих снов. Точнее, не изменился, а появился – раньше никаких способов не было. А теперь он стал воспринимать разные качества мира разными частями сознания. Эта способность утончалась и разветвлялась, и постепенно прежнее простое присутствие оказалось расчлененным на ощущения от света, звука, вкуса и касания, которые были просто осколками прежней целостности.
Сон продолжал сниться, и в нем появлялось все больше деталей.
Он заметил, что висит в теплом океане, заполняя почти весь его объем. Иногда, от скуки и неосознанного желания изменить миропорядок, он начинал глотать его соленую воду; за это приходилось расплачиваться приступом мучительной икоты, и он нетерпеливо ожидал пробуждения, хотя проснуться в таком состоянии было очень сложно: любая форма возбуждения уводила только дальше в закоулки сна, а для бодрствования были нужны покой и отрешенность.
Иногда его заливало тусклое красноватое мерцание, и ему становилось страшно, потому что источник света и причина зрения находились за пределами всего, что он успел более или менее изучить в своих снах; там начиналось неизвестное, что-то такое, чему еще только предстояло развиться. Пока его зрение было латентным, судить об этом чувстве он мог только по еле угадываемым узорам вен на своих недавно появившихся веках.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru