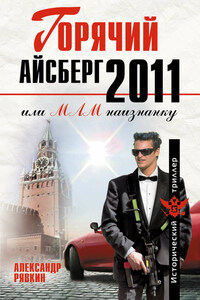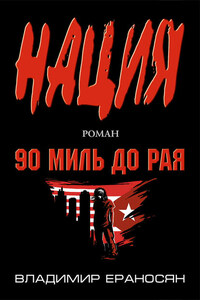Глаза и с жадностью и наслаждением смотрели, как издали, всё круче поднимаясь водной толщей, властно подминая под себя морскую хлябь и подгоняя тучной грудью небольшие волны, шел на разогретый средиземноморский берег этот вал. Ближе, у скалистой глыбы, гагатовым блестящим каблуком взмывающей над пенными ложбинами, он царственно оброс во всю длину крутящимся стеклянным гребнем, готовый раздробиться, как призадумался и замер на мгновение, но не пожертвовал своим лилейно-малахитовым венцом, и так, не разбиваясь, миновал препятствие, прежде чем исчез из поля зрения совсем. Нижнего клокочущего края бухты видно не было, тот прятался за выступом обрыва. И через две секунды стало слышно, как стена воды с глухим протяжным грохотом обрушилась на литораль со всеми ее крабами, полипами, головоногими моллюсками и водорослями. Ревностно, рассеиваясь на мириады брызг, она ударилась о каменисто-илистое взбаламученное дно и, полностью еще не укрощенная, ревела под ногами, ворочая, расшвыривая и омывая камни. Стихия вроде бы давала бенефис или что-то праздновала, причем в своей естественной красе ей было все равно, кто перед ней… В небе – голубоватой перистой перкалью опускавшемся за усеченный гранью водного пространства горизонт, был яркий расплывающийся след от самолета, который пролетел до этого. Выписав дугу над морем, он шел светящимся веретеном, как шелкопряд беззвучно оставлял за оперением инверсионный волокнистый шлейф. По траверсу он находился где-то около Менорки, но все еще был виден под лучами солнца, в своей волнующей недостижимости заманчиво поблескивал крупицей никеля вдали. Береговая линия песчаника, тянувшаяся как ржаной изгрызенный сухарь по обе стороны от мыса, здесь делала сюрприз из скал – изрезанный водой и воздухом паноптикум, сродни античной греческой камее. Тот был представлен маленькими выветренными гротами, невиданным нагромождением камней, лежащих этажеркой друг на друге, и отступавшими от берега утесами. И перед ним ширяли и планировали над водой большие, черно-белые, с вильчатыми длинными хвостами, напоминавшие океанических фрегатов птицы.
Центр разморенного июньским зноем городка был километрах в четырех-пяти, левее мыса с маяком, к которому вела через предместье вдоль холма – отрога то ли Пиренеев, то ли Каталонских гор, развилком с главной трассы, заасфальтированная узкая дорога. Запечатленный на любительской открытке вид – маяк и холм за ним, были как сознательной приметой этого живого и обласканного солнцем уголка в северо-восточной стороне Испании. В окат простроченный нарядными стебельчатыми швами виноградников холм, что возвышался за спиной сейчас, был похож на взнузданную морду жеребца, вприщур, каким-то островерхим помутнением, как отпечатком пальца на бумаге, смотревшего на мыс и бухту. На чистом, не графленом обороте открытка снабжена была невнятным и тревожным послесловием, которое, коль опустить слова стандартных пожеланий, читалось, так: не забывайте обо мне, мне очень жаль! Своей стилистикой оно напоминало серию других, таких же красочных открыток с видами портовых европейских городов, запечатленных с птичьего полета, которыми Елена словно бы давала знать, что не жалеет ни о чем, без памяти довольна своей жизнью, счастлива и хорошо устроилась. Присланное фото являлось как бы продолжением той серии, достаточно понятным для того, кто видел прошлые послания: слабо проступающим налетом меланхолии оно воспринималось терпким и расчетливым контрастом к ним.
Пытаясь разровнять растрепанные ветром волосы, мужчина оторвал взгляд от обрыва. Почти спокойные у городской лагуны воды – с ожесточенным ликованием бурлили в этих скалах, как вымещали накопившееся недовольство. Площадка, на которой он стоял, болкатым замкнутым с боков карнизом шла над морем. Для неуверенных в себе самоубийц от рубчатой дорожки под ногами пропасть отделяла в наклон натянутая за балюстрадой сетка. Думая увидеть неутихающий водоворот внизу, он сделал семь шагов до вырубленной в камне стенки. Наружный бок скалы за ней был выпуклым и ограничивал обзор. Держась за вбитый в стенку штырь, он перегнулся над перильцами, взглянул на обволоченные пеной камни… Когда стоишь вот так у края бездны, то это разом пробуждает и животный страх, и смутное влечение: желание полета, хотя бы сопряженного с угрозой смерти, встроено в наш шаткий разум с самого рождения, оно дается нам как некая прививка на всю жизнь. Но чему быть, того не миновать, уж это точно. Страха он не ощущал; опасность пока тоже не была конкретной. Штырь был захватанным до блеска, прочным и холодным. Подергав тот, он усмехнулся над собой и перешел на то же место. Чтобы начать отсчет отпущенного времени и всех, зависящих теперь во многом от него причинно-следственных событий, он мог сказать себе в дурном порыве экстатического самоутверждения: ну вот я и приехал! А если ты куда-нибудь уже приехал, нет никакого смысла спрашивать себя, зачем. Посадка в самолет, летевший через Франкфурт до Мадрида, и нудные досмотры багажа прошли перед глазами кувырком, ничуть не отвлекая от главной и конечной цели путешествия. Дело было не открытке, что взял он у родителей пропавшей без вести Елены, ну, или не только в ней. С тех пор как она канула в безвестность – сначала для него, затем – и для своих родных, с сыном он встречался всего раз, когда его жена, с которой они не были еще по правилам разведены, приехала на месяц погостить к отцу и матери. Тогда же у них состоялся краткий разговор, какой бывает между не поделившими чего-то ранее супругами, то есть, очень милыми тактичными людьми, уже заметно поостывшими друг к другу, но рефлекторно предъявляющими прошлые счета. Вопрос был в мальчике, будущность которого тревожила. Обеспокоенность была и в частности – из-за объективных упущений в чисто женском воспитании, и в целом как о сыне, который был вне сферы досягаемости. Делая упрек, Елена рассуждала здраво, не признавала ни моральных доводов, ни оправданий. Да, пока они ни разошлись, он слишком мало уделял внимания ребенку, думая, что с возрастом, когда у мальчика проснется тяга к знаниям, тот сам приблизится к нему, захочет взять в различных представлениях ума все то, что восходящему ростку с мужским набором хромосом и надо. Елена подкрепляла этот взгляд на вещи тем, что, видя его состояние тогда, и чувствуя, что близится разлад в их отношениях, она, естественно, стремилась сделать так, чтобы ребенок был поближе к ней, чтобы впоследствии, как вырастет, не «задавал вопросов». Понятно, что как мать она старалась выбирать из двух зол меньшее и следовала в этом прагматичной логике, прямолинейной и безжалостной, как это водится в подобных случаях у женщин. Ее претензии отчасти были справедливы: прежде чем почувствовать нормальную потребность в сыне как в существе, которому он мог бы что-то дать, он должен был сначала сам очиститься, освободиться ото всех психологических болячек. Елена же была охвачена тогда желанием скорейших перемен, ну и, как уж говорится, –