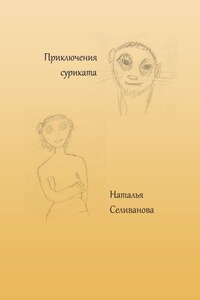Я, тот самый я, которого знаю с детства, который ненавидит все прекрасное и прелестное, тот я, для которого «театр» и «преисподняя» синонимы, а белый лебядь на пруду – вершина всех искусств, оказался на сцене…
О, госпадя, ладно… сциена так сциена, что там у нас. В углу двое каких-то молодеющих чуваков умного вида сосредоточенно копошили аппаратуру. Центр занимал стол под красным сукном – не иначе президиум, и… Ура! Я впервые увидел рампу, увидел грубо, зримо. Увидел и проникся…
– Вам чего – это была та самая «очковая» борода из угла с аппаратурой.
– Вадика не видели?
– Он там – борода немного всплыла над колонкой
– Где?
– Там – махнула борода, при этом, очки и нос снова погрузились внутрь динамика.
– Блять, я же просто так спросил, мне на хер ваш Вадяй не сдался!
– Они в буфете, пиво пьют.
– Понятно.
Я стоял и думал – что правильнее – вернуться в коридор, найти парикмахерскую и сесть рядом с Ленкой… или, пойти в буфет, застать там двух пьяных идиотов и попытаться доказать им, что в рабочий день положено пить не отходя от кассы. Ленка – баба аппетитная, добрая и пьет весело, а Вадя и Сявик – мудилы законченные.
– Как в буфет попадают в этом царстве тьмы и печали?
– Молодой человек! – голос принадлежал даме.
В каком бы состоянии я не был, но отличаю баб по голосам на раз. Чу, кто-то кашлянул, но знаю – это она, не в том смысле, что единственная и неповторимая, а просто – особа женская.
– Весь ваш, незнакомка, томим томленьем упованья, горю невиданной звездой, и наслаждаюсь мигом чудным от всех чудес преображения.
– Пойдем, отведу, меня зовут Лариса.
– Не слышал в это утро слов прекраснее, чем «Лариса». Я счастлив, обновлен, пристыжен, скован, сперва Вас за «Ирину» посчитал.
– Давно пьете?
– Мадам, тот вечер был залит воспоминанием, нахлынуло так много, сжимало сердце, грудь давило.
– Что пили господа?
– Столетний «Арманьяк», настоенный на корочках лимона и скорлупе ореха Кракатук.
– Пришли! – она толкнула дверь, и…
…Солнце, такая масса солнца хлынула в меня…
В углу стояло пианино, буфет на восемь столиков был пуст, но… в уголке дремали два безобразных трупа, которых при рождении нарекли Вадимом, Вячеславом.
– Шампанского, Лариса, прошу, – не откажите, за столь приятное знакомство благодарю Аврору, лично Ильича.
– Пожалуй, только у меня репетиция.
– И я умру в театре, вот просто лягу там, в углу напротив сцены, и буду обожать театр, а пуще ту, которая сразила.
– Ну, давай, за знакомство.
– А можно, я буду любоваться солнцем, пропущенным стаканом сквозь дивный голос, и буду каждый звук снимать глотком искристого напитка. Но прежде, сяду там, на расстоянии метра, чтоб не смутить, не бросить тень, не оскорбить, знакомством не унизить.
– Чем занимаешься, поэт?
– Внимаю, звук ловлю и наслаждаюсь обретеньем смыслов.
– Разве на работу не надо сегодня?
– Сегодня, – что есть сегодня? – сегодня слово, равное вчера. Нет, сегодня мир так грубо вторгся и так меня перетряхнул, что я оставил жалкие потуги посчитать секунды. Сегодня все твое, мне можно не на Вы?
– И… что ты предлагаешь?
– Соединить усилия, отпраздновать приход театра в убогую каморку-келью заблудшего и одинокого в плаще.
– Интересное предложение.
– Один кивок, – шампанское, цыгане, Бродский…
– Ну, хорошо, я в шесть свободна буду, ты придешь?
– Я не уйду, а лягу у порога, неслышно растворюсь в огнях: я – тень, я – импеданс, я – горло.
– Смотри, я буду ждать!
– Уже пришел не уходя, уйду, чтоб снова возвратиться.
– О, какие люди в Голливуде! – Сявик грубо тормошил второго ангела смерти
– Вадяй, морда пьяная, смотри, у нас гости!
Ангел открыл глаза, посмотрел на меня, потом на Ларису, уставился на стол – Дай стакан, деревня! Я вижу с нами дама. И… у меня есть, что сказать под выпить.
– Говори, честный старик, только без грубостей.
Вадик встал во весь свой хрупкий рост:
…Прорывом объективированного мира является не только подлинное человеческое общение, но и, извиняюсь за грубость, сфера собственно творчества. Истинная коммуникация, как и творчество, несут в себе трагический надлом – мир объективности непрестанно грозит разрушить экзистенциальную коммуникацию.
И сознание этого приводит нас к утверждению, что всё в мире, в конечном счёте, терпит крушение уже в силу самой конечности экзистенции, поэтому человек должен научиться жить и любить с постоянным сознанием хрупкости и конечности всего, что он любит, незащищенности самой любви.
Но, государи мои, глубоко скрытая боль, причиняемая этим сознанием, придаёт нашей привязанности особую чистоту и одухотворённость…»
Выпьем, господа, и всплакнем о замкнутости нас в самих себе.
Зал иностранных делегаций
Пришлось выпить, ибо не выпить, не было никакой возможности. Сгенерировав тост, Вадяй пал, расчувствовавшийся Сявик принялся горячо обнимать буфетчицу, я думал о незащищенности любви и плакал, а Лариса задумчиво смотрела в окно. Вдруг из репродуктора прозвучал голос, как две капли похожий на глас самого Левитана
…Группа неразрушающего контроля, срочно пройдите в зал для иностранных делегаций. Повторяю – группа неразрушающего контроля, срочно пройдите в зал для иностранных делегаций…
– Везет же некоторым – сказала буфетчица – ни разу в жизни не была, Нинка рассказывала, – там все есть, и тебе джинса, и фирма: жвачка, мальборо, тряпки
…Повторяю, группа неразрушающего контроля…
Я выглянул в окно и обомлел – самолеты – большие, маленькие, разные – голубые, красные, кружились в плавном танце.
– Ба, Санта-Розалинда, это-ж аэропорт!
– Гыыы, вот блин, ищут какую-то группу, тащат их силком в рай, а эти *****и бухают где-то и в ус не дуют. Да, моя хорошая?! – Сявик усадил буфетчицу на колени и баловал из своего бокала шампунью.
Вдруг меня пронзило.
– Сява, похоже, я знаю этих *****ов.
– Да ладно, откуда?
– Откуда?! Это мы, придурок, это нас – идиотов ждут в зале для избранных, – тебя, меня и этого, как его… – я щелкнул пальцами
– Вадю! – подсказал испуганный Сявик – Иди ты! Нас, зачем нас… не может быть?! – Он осторожно снял с колен застывшую буфетчицу – ****ец, во, попали!
– Ротаааааааааааа, паааадъем! – в буфет ворвались трое военных – на сборы 45 секунд, неподчинение – расстрел.